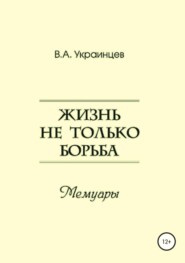 Полная версия
Полная версияЖизнь не только борьба
А в походах ‑ все проще и сложнее. Вахты, вахты, вахты. У нас, штурманских электриков, 4 часа вахта и 12 часов отдых. В перерывах большинство отдыхало за домино, шахматами, смотрели кино – в поход брали 3 или 4 ленты и крутили их, когда позволяла погода (игра в карты была запрещена!). А я учил по самоучителям английский и гитару.
В качку ничего не хотелось делать. Все, кроме вахты, лежали, ‑ качка лежа переносится легче. Меня не рвало, но пропадал аппетит. Нарушался суточный ритм организма. Ко всему прочему, неприятности добавляло отсутствие суточной смены дня и ночи. На широте г. Полярного это особенно заметно – пять месяцев день, пять – ночь, остальное сумерки (С тех пор я не люблю ночь и сумерки!).
Добавлю, что качку все переносили по-разному. Большинство, как я. Некоторые, а таких было единицы, начинали есть в три горла и их совсем не рвало. Были и такие, которых рвало в течение всей качки, но их списывали с корабля на берег. И только по желанию.
Несколько угнетало то, что не было возможности в походе помыться и сменить белье. Простыни меняли условно – верхнюю клали на низ, а нижнюю на верх, а потом переворачивали на другую сторону обе простыни. К концу длительного похода на них было страшно смотреть. Целая неделя по возвращению на базу отдавалась стирке всего и вся, от носовых платков до робы и отмыванию себя. С одного раза это не удавалось!
Режим питания в походе был тот же, что и на стоянке, но с одной особенностью – через неделю хлеб кончался, и переходили на сухари. Сливочное масло на сухарь не намажешь – клали его в чай. В шторм желающих поесть было мало. Закаленным есть приходилось стоя, отрабатывая качку палубы, чтобы не выплескивалось первое.
И еще одна особенность. Весь флот на курево получал махорку, а нам выдавали папиросы «Беломор» Ленинградской фабрики Урицкого. Я их отдавал друзьям.
Весенний поход март….апрель 1952г.
К концу 51-го года весь 27-ой год был демобилизован, и на корабль пришла молодежь. Полностью, практически, обновилось БЧ-4 – радисты и локационьщики. Вместо двух «старичков», на локатор прислали 5 человек ‑ совсем зеленую молодежь. Старший у них был на хорошем уровне. Звали его Валентин. Тоже, как и я, после техникума. Но опыта работы с реальной аппаратурой, как оказалось, у него было маловато.
Начало марта 52-го года. Объявляют недельную подготовку к выходу в поход. Точное время выхода не оглашается – секрет. За двое суток до выхода в море вызывает меня Командир корабля к себе в кабинет-каюту и сообщает, что радиолокатор вышел из строя, и молодежь БЧ-4 уже 4-ые сутки бьется, и ничего у них не получается. Без локатора корабль в намеченный срок выйти не может, а вызов специалистов из мастерских займет не меньше недели. Срыв срока выхода невозможен – скандал и санкции. И попросил (!!!) меня включиться в эту работу. Я ответил, что слабо знаком с радиолокацией, это не моя флотская специальность, но попробовать разобраться готов.
Знакомлюсь с архитектурой локатора. Не помню точно его название, кажется,
«SON-1» ‑ радиолокатор кругового обзора. На мониторе, когда он работает, отлично видна вся обстановка вокруг корабля на дальности до 50-ти миль. (Во время войны англичане поставляли нам эти локаторы).
Блок энергопитания расположен на второй палубе и от него идет жгут кабелей сквозь верхнюю палубу на мостик к видеомонитору и вращающейся антенне, укрытой радиопрозрачным колпаком.
Проверили с Валентином все номиналы напряжения с генераторов энергопоста. Все нормально. Монитор светится, но отметка импульса излучения на экране не вращается, и ответных сигналов от объектов лоцирования нет. Значит, нет излучения. Значит, наверх к передающей антенне импульс не поступает и где-то теряется. Сквозь колпак не было слышно вращение антенны. Значит, не подается питание и на привод антенны.
На всякий случай спросил у Валентина, нет ли штепсельного разъема на кабеле, идущем наверх. Он ответил, что не знает – не успел еще все облазить. Полезли мы по кабелю, и нашли многоштырьковый разъем, расположенной в специальной коробке на верхней палубе. Вскрыли коробку, с большим трудом разъединили «папу» с «мамой» разъема, и…..все стало ясно – вся его внутренность была забита солью! Валентин заставил своих друзей-подчиненных прочистить спиртом (моим! – мне выдавали 0,5л на месяц для регламентных работ на гирокомпасе) всю внутреннюю часть разъема и .локатор заработал! Вместе провели полный цикл тестирования. Все было нормально, и он побежал докладывать своему командиру БЧ-4 о готовности локатора к походу. Радость была неописуемой!
Вызывает меня командир корабля и торжественно, в присутствии командиров БЧ-1, БЧ-4 и Валентина, объявляет мне благодарность и поощрение ‑ 10 суток дополнительно к отпуску – максимум его возможностей. Валентин получил 5 суток. У меня в октябре кончался второй год службы и мне был положен месячный отпуск (без учета дороги в оба конца, а это еще четверо суток. Когда я был на эсминце, однажды, человек 50 со всего дивизиона, выгнали на берег рыть какую-то траншею. Лейтенант Абель послал меня в составе 10 человек от эсминца. Пришлось здорово попотеть, т.к. грунт каменистый. После окончания рытья всем объявили по 5 суток к отпуску).
За несколько суток до отхода, на корабль прибыло несколько офицеров и штатских с какой-то аппаратурой и капитан 1-го ранга из управления Гидрографии СФ. Он поселился в адмиральском салоне. О цели похода я узнал от штурмана – к/лейтенанта Сошальского уже в середине похода.
Цель похода была ‑ проверка возможности и точности определения положения корабля на море по радиопеленгам наших мощных радиопередатчиков, установленных на берегах Балтики и Баренцева моря и уточнение этих данных по стационарным береговым объектам Западной акватории Северного полушария, таких, как маяки, отдельно стоящие береговые сооружения и др., координаты которых точно известны на наших навигационных картах.
Не знаю, как сейчас, но в то время существовало правило: международные воды начинались после 12-ти мильной зоны от берегов государства и 24-х миль ‑ от военных баз. Плавай, где хочешь, а в зону не входи – международный скандал. Тем более, что в то время были очень натянутые отношения с Англией. И мы строго соблюдали эти правила.
В начале марта мы вышли в автономное, т. е. без захода в порты, плавание под гидрографическим флагом. Обогнули Скандинавию, зашли в пролив Скагеррак, далее с севера обогнули Великобританию и вошли в Северный пролив. Здесь нас ждали первые приключения.
Днем была стоянка на траверсе Дублина, и корабль был атакован с моря несколькими рыболовными шхунами – они подходили близко к борту и рыбаки предлагали рыбу – поднимали большие рыбины над собой и что-то кричали. Отвечал им на английском один из прикомандированных офицеров. Я в это время был на мостике, к тому времени уже кое-что понимал по-английски. По-моему он их посылал…….., и те мирно уходили. В это же время над нами несколько раз пролетел, чуть не задевая мачты, один и тот же винтовой самолет, я даже разглядел летчика и помахал ему. Он мне ответил – поднял руку.
Ночью, в районе 2-х часов, уже на ходу, было второе приключение. Я был на вахте, сидел в гиропосту, люк не был задраен. Слышу наверху какой-то шум, топот ног. Вахтенным офицером был старпом. Я бегом влетел на мостик, за мной чуть позже прибежали, застегиваясь на ходу, командир и офицер, который днем разговаривал с рыбаками, со своим огромным зеленого цвета фотоаппаратом. (С ним он всегда выходил на верхнюю палубу, фотографировал встречаемые военные корабли. Ставил к борту первого попавшегося матроса, клал ему на плечо объектив и фотографировал их. Наверное, это был сотрудник КГБ, переодетый в военно-морскую форму).
В штурманской рубке был Сошальский, на крыльях мостика помощник командира и Замполит, рулевой – у своего манипулятора. У локатора – вахтенный, на верхней площадке мостика на своем боевом посту сигнальщик. Я взглянул на монитор локатора и увидел на экране такую картинку: на встречном курсе прямо на нас движется какой-то корабль. До встречи оставалось минут 7. Сигнальщик громким голосом докладывает: «Слышу взрывы и шум винтов самолета!». Я этого ничего не слышал. Когда корабль идет, на верхней палубе довольно шумно от работающих дизелей. Сближаемся! И старпом отдает команду рулевому: «Право на борт!», а в машинное отделение: «Стоп машина!».
Остановились. В темноте нас не видно, все огни, кроме стояночных и топового, были немедленно погашены, все иллюминаторы задраены. И через несколько минут наблюдаем следующую картину: по левому борту мимо нас медленно проплывает прогулочный пароходик, весь в огнях, с веселящейся и танцующей на верхней палубе под громкую музыку публикой. Когда они осветили нас своим прожектором, раздался возглас всеобщего ликования с их плавсредства и приветственные жесты. Мы же продолжали молча стоять с потушенными для маскировки огнями и смущенными физиономиями. А капитан 1-го ранга так и не вышел из адмиральского салона.
Сразу после этих «драматических» событий мы продолжили плавание курсом «зюйд-вест» в Атлантику.
Примерно через 10 суток непрерывного плавания прибываем в район Азорских островов. Этот переход запомнился отличной безветренной солнечной теплой погодой и «мертвой зыбью» со встречными пологими волнами высотой примерно до 3-х метров. (Мертвая зыбь ‑ это волнение моря после шторма. В Баренцевом море мертвая зыбь длится не более полусуток. По-видмому, до нашего входа в океан был сильный шторм, и мы захватили его хвост – океан качает после шторма долго).
Около суток нас испытывала килевая качка, но она переносится намного легче, чем бортовая. Температура воздуха была около 20-ти градусов, и мы, в свободное от вахты время, загорали у кормового штурвала на спардеке. Был конец марта, в Полярном зима, в Москве сильный мороз, (Это я случайно услышал 23-го марта 2008г, когда писал эти строки, по р/с «Эхо Москвы» в передаче «Метеоскоп»: «23 марта 1952г был поставлен температурный рекорд –23град Ц»), а посреди Атлантического океана ‑ летняя благодать! Стало немного обидно за державу и ее суровый климат.
У Азоров мы долго не задержались, обогнули их с восточной стороны, сделав три стоянки, и двинулись курсом «норд-ост» к южным берегам Гренландии. После краткой остановки вблизи Гренландии, взяли курс на Рейкьявик, обошли Исландию с юга, с краткими остановками проплыли Фарерские и Шетландские острова и курсом «ост» дошли до Скандинавии. Вдоль берегов Норвегии вернулись в Полярный без как каких-либо приключений, оставив за кормой около 20000миль за два месяца плавания, без захода в порты. Вся моя аппаратура и команда сработала на отлично. В Полярном корабль встречали с оркестром Руководство Гидрографии СФ и, самое главное для экипажа, автофургон со свежим хлебом, который мы не видели почти 2 месяца.
Летние походы 1952г
В Полярном долго мы не задержались. ‑ пополнили запасы, постирались, помылись и через 2 недели для небольшого ремонта дизелей корабль зашел в Ара-губу, пришвартовавшись к большому дебаркадеру.
Когда мы были в Полярном, большая бригада связистов сменила всю корабельную сеть ГГС. В составе этой бригады оказался мой товарищ из техникума Федя Кравченко, с которым мы вместе проучились все 4 года. Он тоже был во флотской форме, но служил на берегу. При первом же моем увольнении на берег, мы отпраздновали встречу в домике, в котором жили две его подружки-москвички. По распределению, после какого-то техникума, они попали в Полярный. Одну звали Нина, она была старше его на 2 года, с ней у Феди были очень близкие отношения, (впоследствии она стала его женой и он увез ее с Севера, когда демобилизовался), а другую звали Тоня, тоже очень симпатичная, круглолицая девушка с тёмными, длинными волосами. На Север, в этот забытый богом край, их привела романтика и патриотизм – обе были «комсомолки-красавицы». Только мы налили по второй, как к нам ворвались патрули. Они увидели нас с улицы, когда Федя встал и произносил тост. Его голова оказалась выше занавески окна, и проходящий патруль его увидел. Отвели нас на гауптвахту, назначили обоим срок – 5 суток. На следующее утро приехал старпом и забрал меня на корабль. Это было мое первое знакомство с гауптвахтой.
Пока мы стояли в Полярном, меня попросили разобраться с гирокомпасами на одной из дизельных подводных лодок и на торпедном катере. На подводной лодке стоял такой же, как у меня г/к «Курск», с которым я быстро справился. Здесь я увидел, как живут и служат подводники. Теснота неимоверная, в походах спят в подвесных койках-гамаках, прицепившись за какую-нибудь трубу. На стоянке они живут и питаются на берегу.
На торпедном катере стоял г/к «Гиря», раза в четыре миниатюрнее г/к «Курск». Мне удалось привести его чувство не сразу, т.к. сначала надо было разобраться со схемой – она несколько отличалась от схемы моего г/к, т. к. этот г/к был создан специально для торпедных катеров, плавающих на огромных скоростях с большими перегрузками (ускорениями). А вторые производные, если их не скомпенсировать, могут вывести г/к из меридиана. Я докопался, что вышла из строя схема компенсации, и совместно с их штурманом (в штате катера штурманский электрик не предусмотрен) вернули компенсатор в исходное состояние. Они отблагодарили меня бутылкой «Кагора». Его им, также как и подводникам, выдавали каждый день по 100г. А экипаж у них – всего 7 человек.
Ара-губа довольно глухое место, кругом одни скалы, на берегах пусто, нет ни одного домика. Весь состав ‑ военные в форме ВМФ. Жили они прямо на дебаркадере. .Делали они, в основном, мелкий ремонт.
Ремонтировались мы, в основном, своими силами. У нас была мощная команда мотористов в БЧ-5, возглавляемой кап. 3-горанга Краузе. Основная рембаза на Севере находилась в поселке Роста в 7-ми км к югу от Мурманска, где мы стояли в доке в конце 51-го года. Там целый огромный завод, а с мелким ремонтом отправляли в Ара-губу.
До захода в Ара-губу ушел на повышение Сошальский и на корабль пришел другой штурман – старший лейтенант Пономарев. Как вскоре выяснилось, это был совсем другой человек. Холеный барин-франт лет под 40 с сексуально озабоченной наглой физиономией. А меня незадолго до этого избрали секретарем комитета ВЛКСМ корабля.
Здесь, в Ара-губе произошло два интересных события.
Первое событие. Как секретарь, я решил провести культмероприятие. Пришел на дебаркадер и предложил провести соревнование – матч по шахматам. Надо сказать, что на корабле меня редко кто обыгрывал, т.е. я считался хорошим шахматистом, но у меня не было даже 3-го разряда. Договорились играть на шести досках. Меня, как лучшего, посадили на первую доску. И вот начался матч….. После третьего хода я почувствовал, как мой визави меня здорово прижимает, и на десятом ходу мне ходить уже было некуда, куда ни сунься, везде мат! Пришлось сдаться. За мной последовательно сдались все пять моих коллег. После матча мне сказали, что со мной играл кандидат в мастера спорта по шахматам. И мне было не очень стыдно, хотя и неприятно. (Вспоминаю 49-ый год. Одним из сотрудников НИИ-627 числился(!) Михаил Ботвинник. Однажды он согласился сыграть с шахматистами НИИ-627 на 40 досках. Сел и я. Меня он положил на лопатки на 9-ом ходу. Самый стойкий продержался 40 ходов).
Второе событие. Вожусь с чем-то в гиропосту, готовя аппаратуру к предстоящему походу. По телефону звонит новый штурман. Попросил принести к нему в каюту гитару. С гитарой вхожу в каюту и….обомлел! Дым коромыслом, стойкий запах спиртного, посреди каюты, вокруг импровизированного столика с закуской и водкой, сидит компания из пяти или шести захмелевших офицеров и молодая женщина! Из наших офицеров там был, кроме Пономарева, еще один молодой офицер из БЧ-5, недавно прибывший в помощь Краузе в БЧ-5.
Для меня это был шок!!! Женщина на корабле!! Как она попала на корабль, ведь у трапа стоит вооруженный часовой? И коллективное распитие офицерами водки на корабле! Я не был бы так поражен, если бы увидел в подобной ситуации матросов или старшин. (У меня всегда был спирт для обслуживания аппаратуры, штурман Сошальский ежемесячно выдавал мне по 500г, и ко мне иногда кто-нибудь из друзей заходили в гиропост с просьбой отоварить по возможности. И я давал понемногу, но сам его не пил. Другое дело в увольнении. Хотя и там это делалось так, чтобы не нарваться на патруль – тут же арест до 10-ти суток, в зависимости от состояния… Пономарев мне спирт ни разу не выдал, и мне это казалось странным и обидным.). Отдал гитару и вернулся в гиропост. И забыл про этот изумительный факт.
В начале июня мы вышли в первый большой поход 52-го года. Взяли на борт двух флотских офицеров и двух старшин с какой-то аппаратурой. Официальная цель похода ‑ уточнение координат и возможности подхода к берегам некоторых островов. Но была и секретная, о которой я догадался только через год. (Вообще, команде никогда не объявлялись цели и задачи походов. Даже в секрете держалась дата начала похода).
Через 1,5 суток мы пересекли меридиан Каниного мыса, а это значит, что экипажу корабля пошел шестерной оклад. Обратно мы пересекли этот замечательный меридиан через 10 суток. Подзаработали прилично. На эти деньги я купил новейшие часы «Победа» с самозаводом (привезли из Москвы отпускники), и осталось немного на отпуск. (В 53-ем году эту льготу заменили на полуторный оклад).
Первая стоянка была на о. «Колгуев».
Здесь я увидел, как ненцы живут и как питаются. Я зашел в домик, и мне предложили поесть строганину, обмакивая ее в миску с кровью только что зарезанного оленя. Я отказался. У ненца я купил 6 невыделанных оленьих шкур. В октябре я должен был ехать в отпуск, запланировал взять их в Москву.
И впервые близко пообщался с белым медведем, вернее с крупным медвежонком. Он был на цепи. У меня было фото, как я что-то с опаской ему протягиваю с руки, а он натянул цепь и пытается достать. На острове в то время стояло несколько юрт, два деревянных домика и магазин, в котором я впервые увидел в продаже пол-литровую бутылку с этикеткой «СПИРТ» и чуть пониже мелкими буквами «питьевой». Стоила она 6 рублей! (А водка в Москве тогда стоила 2,87р за бутылку) Здесь меня поразили ездовые собаки – огромные добродушные псы с мощными лапами.
Вторым островом была «Новая Земля». Облазили мы ее западное побережье очень тщательно от южной оконечности до мыса Желания – самой северной ее точки. Зашли даже в пролив Маточкин шар, разделяющий обе половины этой практически безжизненной земли. (В то время там обитало 250 местных жителей, и большая экспедиция геологов. Значительно позже я догадался, что мы искали на «Новой Земле» и что там делали геологи).
На «Новой Земле» земли-то в общепринятом понятии нет. Сплошные огромные «снежники» с ледниками. За сотню миль, когда подплываешь, их белые шапки встают постепенно из-за горизонта. И никаких возможностей пришвартоваться, где бы то ни было, кроме как в губе Белушья, к затопленной у самого берега барже. Губа эта милях в 120-ти на Север от самого южного мыса. Здесь во время войны была постоянная база немецких подводных лодок, подстерегающих караваны судов, идущих в Баренцевом и Белом морях в наши порты с военной техникой для нужд фронта. (В 1977г, один сотрудник, бывший военный, рассказал мне, что в середине 60-х годов в губе Белушья уже был отстроен небольшой городок для атомщиков и военных).
За баржей была небольшая площадка, где мы даже погоняли в футбол. Потом я уговорил двух друзей – сигнальщиков сходить на ближайший «снежник», на котором был ледник. Казалось, что он совсем рядом. Но это был обман зрения. Шли часа 1,5, все время вверх, а он не приблизился ни на шаг. Пришлось отказаться от этой затеи и вернуться на корабль.
От «Новой земли» был большой переход с краткими стоянками к о. Надежды. На одной из стоянок я оказался свидетелем охоты на касаток. Погода была хорошая, теплая, градусов 10, полный штиль, слабый туман, небольшая мертвая зыбь. Я был на ночной (условно ночной, т.к. солнце было высоко над горизонтом) вахте. Вдруг слышу один выстрел, другой! Выбегаю на мостик и наблюдаю такую картину: на баке с винтовкой стоит командир корабля, а вокруг корабля играет стадо касаток, иногда выпрыгивающих из воды метра на 3, подныривающих под корабль и выныривающих с другого борта.
Касатка – это небольшой кит, больше похожий на огромную рыбину, длиной метров 7, в диаметре до метра. Хвостовой плавник у них вертикальный, не как у кита. Посреди туловища торчит вверх огромный, до метра, черный плавник, очень похож на кинжал. Дышат они воздухом, периодически всплывая на поверхность на несколько секунд, издавая мощный звук при выдохе, (а может быть и при вдохе?).
И командир решил поохотиться на этих громадин. В одну касатку, метров с 10-ти, он наверно попал, т.к. она как-то неестественно дернулась и в вертикальном положении хвостом вниз ушла под воду. Скорее всего, он попал ей в глаз – попадание в любое другое место винтовочной пули вряд ли ее смутит.
Далее был переход к о. Медвежий. Запомнился он тем, что мы попали в поле айсбергов – ледовых громадин. На одном я разглядел в бинокль огромного белого медведя, он смотрел в нашу сторону и даже не пошевелился. Корабль замедлил ход и, лавируя, благополучно миновал эту опасную зону.
. На Медвежьем всю войну, так же, как и на «Новой земле»», была база немецких субмарин. Это значит, что вся северная зона до Карского моря была заблокирована немцами и пробиться через них караванам было не легко, хотя их сопровождали эсминцы и авиация. (Значительно позже я смотрел фильм про поход и гибель большей части английского каравана («IQ», кажется) в этой зоне и понимал, в чем дело – там все было заблокировано немецкими подводными лодками).
В начале июля мы вернулись в Кольский залив и пришвартовались к причалу Росты для пополнения запасов и приведения в порядок экипажа. Через пару дней нас попросили освободить причал, мы отошли и бросили оба якоря на рейде Росты.
Стоянка на рейде в Кольском ‑ опасное мероприятие. Ширина его в этом месте небольшая ‑ около 2-х миль. Мимо нас довольно часто и близко проплывали сейнеры, идущие в рыбный порт Мурманска сдавать улов, и уходящие на лов рыбы. Так что вахтенному офицеру надо было держать «ухо востро» ‑ рыбаки мореходы не очень искусные, особенно уходящие на лов. После сдачи рыбы отдохнуть им особо не давали, и через 2…3 дня беспробудного «отдыха» после разгрузки их прогоняли обратно в море. Тем не менее, исполнять роль вахтенного офицера на рейде доверялось старшинскому составу, чтобы дать офицерам передых. Большая часть их увольнялось на берег.
Стоянка на рейде запомнилась мне потому, что ночью (светло, как днём!) у нас украли огромный ковер из адмиральского салона, который вестовой вывесил для просушки на леерах на корме. В это время исполнял роль вахтенного офицера на мостике мой коллега Сергей Щеглов. Я его сменял в 4 утра и обратил внимание, что ковер был, а теперь его нет. Наверно он заснул, а воры подплыли на малом катере и стянули его с лееров кормы (там высота борта метра 3). Какие были санкции я не знаю, по-моему, это дело замяли. Как потом Сергей мне признался, он заснул стоя, облокотившись на штурманский стол, и поэтому не услышал подход и отход катера воров.
На рейде мы не задержались и вскоре нам дали постоянную стоянку на причале мыса Мишуков, прямо напротив Росты на другом берегу залива. Там я впервые и единственный раз за службу искупался – на воздухе было около 20, а вода ‑ 16 градусов.
И вот, в эту «жаркую» погоду к нам на корабль прибывают большие начальники и запираются в кабинете-каюте командира корабля. Через некоторое время начали вызывать кое-кого к себе. Вызывают меня и начинают драить, за то, что я, как секретарь, плохо воспитываю молодежь, что на корабле слабая дисциплина и т. д.
Я кое-как отбиваюсь, аргументируя тем, что на корабль служить приходят не дети, а вполне сформировавшиеся люди, (на флот тогда призывали с 20-ти лет) и перевоспитать их уже невозможно. В конце разговора спрашивают, известен ли мне факт коллективного распития в каюте штурманом Пономаревым спиртного? Предупредили, что я, как секретарь должен говорить правду.
С учетом того, что я секретарь, и того, что он перестал давать положенный мне для регламентных работ спирт, я ответил, что подтверждаю! Кроме того, как честный человек, по-другому ответить я не мог! Про спирт я, конечно, ничего не сказал.
В середине августа 52-го года мы ушли в поход, цель и маршрут, которого я так и не понял. С штурманом у меня ни каких контактов, кроме официальных, не было. Спирт он по прежнему мне не выдавал, сукин сын.
Первая недолгая стоянка была у о. Моржовец. Далее мы вошли в Северную Двину и пришвартовались к причалу Соломбалы (район Архангельска) рядом с несколькими тральщиками. В Соломбале был крупный целлюлозно-бумажный комбинат, и тем, кто знаком с этим производством, не надо объяснять, какой запах от него исходит. Запахом сероводорода был пропитан весь этот район Архангельска. Усугубило ситуацию то, что практически весь экипаж на третий день после прихода в Архангельск заболел дизентерией. Только я, и еще 5 человек, не заболели. В общем, это обстоятельство задержало выход в поход на две недели. Нанюхался я этого «водорода» на всю жизнь! Зато побывал в Архангельском Большом театре на каком-то вечернем спектакле, поход в который я, как секретарь, организовал. Правда, большую часть спектакля мы просидели в буфете и, будучи слегка веселые(?), чуть не опоздали на корабль, т.к. заблудились. Что смотрели, не помню. Но все обошлось.



