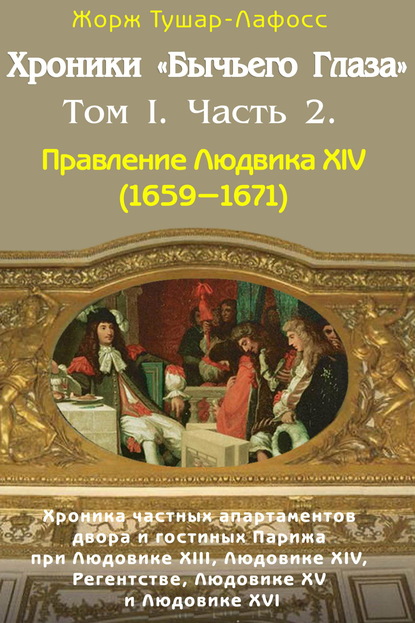
Полная версия:
Хроники «Бычьего глаза» Том I. Часть 2

Жорж Тушар-Лафосс
Хроники «Бычьего глаза» Том I. Часть 2
Правление Людовика XIV (1659–1671)
Хроника частных апартаментов двора и гостиных Парижа при Людовике XIII, Людовике XIV, Регентстве, Людовике XV и Людовике XVI
ООО "Остеон-Груп" Москва-Ногинск – 2020
При участии изд-ва "Майор"
© Перевод с французского под редакцией Л.И.Моргуна. 2020
Глава I. 1659–1660
Двор без хлеба. – Статс-дамы, спящие на соломе. – Бархатные шапочки и кардинальская шапка. – Епископ-полковник. – Графини генерал-майоры. – Людовик XIV присутствует при царствовании Мазарини. – Кардинальские мушкетеры. – Великий Конде на коленях. – Вольная мысль госпожи Шеврез. – Пышность Мазарини и простота двора. – Неловкость этикета перед пиренейскими конференциями. – Итальянское шутовство кардинала. – Пышное шествие уполномоченных. – Позолоченное рагу. – Инфанта умирает со скуки. – Костюмы придворных в Сен-Жан-Люз. – Мария-Терезия: ее глаза, талия, корсет. – Церемония вступления молодой королевы в Париж. – Парламент верхом. – Описание тогдашней иллюминации. – Черная дама: кто была она.
Пиринейский трактат возвратил нам мир и принца[1]; Конде, пожал руку Тюренну, своему победителю при Дюнах, и примирение этих двух великих людей освобождало нас от страха за междоусобную войну[2], которую могло возжечь только их разъединение. Значит не будет более ни баррикад, ни фрондеров, ни мазариниевской партии. Вдовствующая королева со своим двором не будет блуждать вне столицы без денег, без белья, без хлеба. Статс-дамы не будут более спать на соломе в окрестностях Парижа; придворные ее величества не станут рубить дрова своими шпагами, чтобы не дать замерзнуть Анне Австрийской и ее дамам.
Кардинал вступил в Париж более могущественным, чем когда бы то ни было. Парламент принял его отлично: большие парики этого учреждения склонились перед ним. Вот и бархатные шапочки наших президентов покорились кардинальской шапке его эминенции. Стоило делать столько шума с 1648 по 1653 г., убивать столько честных людей, очернить столько репутаций для того, чтобы выказать кардиналу больше покорности, чем он требовал, прежде того, как парламент выслал против него подворотную кавалерию[3] и Коринфский полк[4], командиром которого был коадъютор Риза, несмотря на свою митру, посох и фиолетовые перчатки. Что касается меня, я проводила целые часы в моленной, прося Бога избавить от Фронды; я никогда не желала быть в числе графинь-генералов находившихся под командой герцогини Лонгвилль.
После всех этих передряг Мазарини сделался опять как бы королем; Людовик XIV только присутствует при царствовании своего первого министра. По улицам то и дело, что сталкиваешься с мушкетерами его эминенции: это все красивые молодые люди, платье которых вышито золотом; между тем, как у королевских гвардейцев часто бывают разорваны штаны так, что опускает глаза иная фрейлина королевы – а эти фрейлины, как известно, не робкого десятка.
Великий Конде не может утешиться, что согнул колено перед кардиналом, когда его светлость являлся ко двору в Амьене. Действительно было жестоко выказать подобное уважение тому, кого принц третировал прежде так бесцеремонно и называл il signor faquino даже в письмах. Но победитель при Рокруа, Фрибурге, Ленце, Нордлингене воевал с Францией во главе испанской армии; кардинал, положим, и бездельник, – не может ни в чем упрекнуть себя. Необходимо было смирить перед ним гордую отвагу, привыкшую все покорять, и которая до тех пор еще никому не покорялась. Первый министр повел принца к вдовствующей королеве, где находился король, перед которым великий Конде стал на колени и просил прощения. Когда знаменитейший из наших генералов склонил увенчанное чело к ногам короля, Людовик XIV мало помнил о том, что его родственник прежде сделал для славы; но воин отомстит ему: он снова разобьет его неприятелей.
В ожидании, Конде является в Лувр с нахмуренным челом, и никто не старается утешить его, потому, что он в немилости. Впрочем, госпожа Шеврез утверждает, что одной только госпоже Лонгвиль удается развеселить брата… Она прибавляет при этом странные вещи, но герцогиня видит везде и во всем одни любовные стремления: в ее глазах любовь – всеобщий двигатель, и я не удивляюсь, если в этом главную ноль играет ее воображение.
Наконец у нас есть молодая королева; два месяца как совершился брак Людовика XIV с инфантой Марией Терезией Австрийской, единственной дочерью Филиппа IV; но двор прибудет в Париж только завтра.
Мазарини выехал из Фонтэнебло в июле 1669 г.; его сопровождали шестьдесят знатных особ: в том числе архиепископы Лионский и Тулузский, маршалы Граммон, Клерамбо и Виллеруа. Конвой его эминенции состоял из ста мушкетеров и двухсот пехотинцев, а свита из шестнадцати пажей, тридцати оруженосцев, полутораста ливрейных слуг и восьми фургонов, запряженных шестерками. Семь карет предоставлялось для особы первого министра; кроме того вели сорок лошадей без особого назначения.
В то время, когда этот поезд шумно направлялся в Сен-Жан-Люз, принимая на пути всевозможные почести, двор, настолько, же скромный, насколько была пышна кардинальская обстановка, следовал в Бордо малыми переходами. Прибыв в этот город, двор остановился в древнем замке Тромпетт, где дул повсюду сквозной ветер и обои висели в лохмотьях.
Когда Мазарини прибыл в Сен-Жан-Люз, дон Люис Гаро остановился в Фонтараби. Оба эти уполномоченные были горды и ревностны к достоинствам своих дворов. Дело шло о первом визите; целый месяц прошел в обмене нот, в спорах о разрешении важного вопроса о первенстве. Мазарини пытался выйти из щекотливого положения посредством итальянской хитрости: он слег в постель в надежде, что по случаю его нездоровья, дон Люис примет на себя инициативу дипломатической вежливости, приедет к нему, а его эминенция, приняв испанца в постель, избавится от необходимости, провожать его. Действительно это была бы большая победа над церемониалом. Но кастильская гордость не пошла на эту приманку, и публичные переговоры начались на острове Фазанов[5], не быв предшествуемы никакими частными посещениями.
Кардинал хотел по крайней мере отличиться преимуществом пышности, в которой не мог сравниться с ним соперник: на свидание он поехал в карете, сопровождаемый тремя французскими маршалами, генерал-фельдцейхмейстером, двумя архиепископами и двадцатью другими прелатами. Ему предшествовали четыреста гвардейцев с офицерами. За рядом двенадцати карет следовало двадцать великолепных верховых лошадей, покрытых попонами, на которых были вышиты гербы его эминенции, и ведомых конюхами в пышной одежде. Потом ехали кардинальские пажи и слуги в богатейших ливреях.
Люис Гаро со своей стороны приближался с двумястами пятьюдесятью конных телохранителей в шлемах, обнаженными мечами и что всего удивительнее – в ливрее испанского первого министра. Офицеры, которых его превосходительству хотелось выделить из ряда слуг, были одеты в зеленые бархатные кафтаны с золотыми галунами, на которых резко отделялись красные шарфы. За ними следовал – Люис в носилках, предшествуемый восемью трубачами в зеленом же бархате, в руках у которых были блестящие, серебряные трубы. Шествие замыкалось пятнадцатью каретами с дворянами и прелатами.
Когда оба министра вступили на остров, строжайший этикет рассчитал число вельмож, пажей, конюших и телохранителей, их сопровождавших. Зала для конференции была устроена наполовину из ковров испанского первого министра, наполовину из кардинальских; для каждого из них поставили по креслу и маленькому столику; двери обе их галерей, по которым они вошли, вверены были охране капитанов французскому и испанскому. Только два государственных секретаря присутствовали при уполномоченных для написания статей: при Мазарини находился Лионн, при дон Люисе Колома.
Таковы были предварительные распоряжения, длившиеся четыре месяца; все хитрости, все тонкости извилистой политики обоих дворов были исчерпаны при этих продолжительных свиданиях. Мазарини употреблял тысячу и одну уловку своей итальянской хитрости, чтобы ловчее обмануть; дон Люис настойчиво держался своей осторожности, характеризующей его нацию, чтобы не поддаться обману. Наконец мир был подписан и брак условлен, но торжество отложено до 7 июля.
По закрытии конференции герцог Граммон отправился в Мадрид просить руки инфанты; эскуриальский двор принял этого посланника с особенной пышностью, ибо на пире, данном ему кастильским адмиралтейством, подали семьсот золоченых блюд, к которым никто не мог прикоснуться, так как французский посланник должен был ужинать у себя.
Испанский король немедленно отправился с дочерью в Сен-Себастиан, куда и прибыл 27 мая 1660 г. на праздник Тела Господня. Когда по окончании вечера дворянин, вручивший письмо Людовика XIV Марии-Терезии, спросил у этой принцессы, которая велела передать много любезностей вдовствующей королеве, – не имеет ли она чего сказать королю, инфанта отвечала: – Боже мой, разве же я не просила вас три раза передать королеве моей тетушке, что я умираю от нетерпения ее видеть. Скажите только это. – Трудно более тонким образом скрыть нетерпение выйти замуж; но вероятно то, что посланник, отдавая отчет о нетерпении, от которого умирала испанка, не адресовался к тетке.
На другой день оба двора съехались в Сен-Жан-Люз; они соперничали в роскоши и великолепии. Испанцы выказывали больше драгоценных камней, но французы превосходили их в щегольстве и изяществе костюма. Плащи и кафтаны придворных испанского короля отличались массивным тяжелым шитьем, а шляпы кастильских вельмож были плоские, перья жидкие. Одним словом все в костюмах этого двора обличало отсутствие грации и вкуса. Наши же дворяне, напротив, соединяли с блеском и богатством щегольство и изящество. У молодых людей из свиты короля, как Сен Тьерри, Бриен, Кавоа, Вард, Гишь, Пегиллен серые моаровые плащи обшиты были золотыми кружевами или из черной венецианской материи с серебряными кружевами в шесть рядов и подбиты золотой или серебряной тканью, смотря по наружному украшению. Под этими плащами виднелись кафтаны из серебряной или золотой парчи с черными богатейшими кружевами. Шляпы их украшались белыми перьями, схваченными алмазной петлицей.
Молодая королева, как сказывал мне Сувре, была прекрасна, но немного бледна; в больших ее глазах много выражения; как бы там ни говорили, но они совсем не лишены того испанского красноречия, которое обещает много, а обыкновенно дает больше. Талия Марии-Терезии стройна, но теряет от дурно сшитого платья и излишества украшений, которые государыня отбросит, когда ее туалетом займется французская гофмейстерина. Все наши молодые люди кричат против корсета королевы, который безобразит грудь ее. Вероятно мадридские модистки весьма неопытны, чтобы портить подобным образом то, что хорошо, между тем, как парижские так искусны, что умеют и нехорошее выказать в привлекательном свете.
Здесь оканчивается рассказ барона Сувре и я продолжаю передавать свои наблюдения.
Я возвратилась домой усталая, ослепленная, измученная. Король и королева въехали сегодня в Сент-Антуанские ворота, еще недоконченные. Шествие продолжалось двенадцать часов среди ликующего народа. Все парижане с рассвета на ногах, чтобы любоваться один, два, три, даже десять раз великолепным зрелищем. Ни формы, ни цвета домов нельзя было узнать – так их украсили обыватели, каждый по своим средствам. Мостовая покрыта была розами, жасминами, гвоздиками, миртами и множеством других цветов; кареты катились без шума по этим мягким душистым коврам. Королева, блистая нарядом и красотой, проехала через весь Париж, сидя в богатейшей древней колеснице; воздух оглашался звуками музыки, помещавшейся на других, менее роскошных колесницах, среди восторженных кликов народа. Король верхом, следуя возле молодой супруги, казалось, разделял всеобщую радость; возбуждению которой много способствовала мужественная его красота и богатый костюм с драгоценными камнями миллионов на семь.
Но так как во всем в мире есть своя забавная сторона, то в сегодняшней церемонии утешили нас члены парламента. Да и кто не смеялся бы при виде президента, королевского прокурора, советников, секретарей, в своих беретах и судейских мантиях, развевавшихся по ветру, – верхами, со шпорами; привязанными к башмакам, которые ехали впереди двора, словно кавалерийский отряд. Испанская инфанта, которая без сомнения, никогда не видела конного парламента; закрыла рот платком… Я никогда не встречала, более комизма в серьезном.
В этот вечер все дома иллюминованы; везде на дверях отелей, в больших бронзовых канделябрах горят разрисованные и позолоченные восковые свечи. Буржуа привесили у окон разноцветные бумажные фонарики; некоторые вельможи подражали им, только велели нарисовать свои гербы на этих транспарантах.
Оканчивая это описание, я не могу умолчать о словах одной дамы в черном платье, которая стояла возле меня в улице Ферроньери, во время прохода шествия. Дама эта, будучи поражена красивой, благородной наружностью короля, более чем красотой королевы, красноречиво выхваляла блестящие качества этого государя. При взгляде на него, в ее глазах отражалась вся душа; грациозная грудь ее быстро приподнимала черную одежду. Не в состоянии удержаться от необходимости высказать свое удивление, она сказала довольно громко своей соседке: «О, королева должна быть довольна мужем, которого, выбрала»! Я просила знакомых узнать имя этой пламенной наблюдательницы, и мне назвали вдову поэта Скаррона.
Глава II. 1661
Возобновление двора. – Госпожа Соассон. – Старинный вид Лувра. – Тюильрийские собрания. – Сундуки, и сундучки. – Голодный стол у королевы. – Посланник ощупью. – Ужин ограбленного короля. – Комнаты фрейлин. – Больной Мазарини. – Дипломатия и лекарство. – Секретная нота. – Появление «Школы мужей» Мольера. – Пожар в Лувре. – Духовник королевы. – Щекотливость Марии-Терезии. – Монах пожарный. – Описание дворца Мазарини. – Смертный приговор Кардиналу. – Печальное прощанье министра с богатством. – Игорный долг при кончине. – Ужас. – Кокетство умирающего. – Скупость на смертном одре. – Кольбер швейцаром. – Последние советы Мазарини Людовику XIV. – Смерть кардинала. – Его портрет. – Его эпитафия.
Двор принял новый вид, со времени переселения в Лувр молодой королевы: графиня Соассон, назначенная в правительницы дома ее величества, потихоньку обновила весь старинный церемониал, который вдовствующая королева сохраняла потому, что он напоминал ей молодость. Графиня Соассон, привыкшая к итальянской роскоши своего дяди, чрезвычайно недовольна устарелой внутренностью дворца наших королей; эти высокие окна, состоящие из множества мелких стеклышек, обделанных в свинцовый переплет, эти зеркала из многих узких составных частей, когда Венеция присылает нам их в три и четыре квадратных фута; эти столбы, беспорядочно увешанные аркебузами; наконец, все это обветшалое великолепие, которое делается смешным при сравнении его с щегольским убранством во дворце кардинала, до такой степени ненавистно графине, что она согласилась перевести собрания королевы в Тюильри, на что ее величество изъявила согласие.
Дамы нового двора и фрейлины Марии-Терезии, которые все молоденькие и хорошенькие, громко жалуются на отсутствие даже старой мебели в своих комнатах; они хотели бы заменить неуклюжие сундуки, в которые принуждены втискивать свои наряды, сундучки, куда они прятали свои золотые вещи. Но все преобразования не могут совершиться разом. Стол ее величества уже гораздо лучше прежнего, ибо метрдотели регентши были известны во всей Европе своей неловкостью и скряжничеством. Еще не забыли, как в 1645 г. когда королева хотела угостить польских посланников в Фонтэнебло, за первым блюдом недостало говядины. В довершение бедствия, иностранцы эти после пиршества, должны были проходить по длинным галереям и комнатам, которые забыли осветить. Недавно еще господин Лионн получил приказание угостить при дворе первых испанских вельмож, присланных во Францию для заключения мира, и каково же было его положение, когда он узнал, в момент подачи, ужина, что все блюда были на дороге расхищены офицерами и служителями, и эти блюда, отнятые у похитителей в амбразурах окон, в чуланах, в коридорах, появились на королевском столе опустошенными на половину.
Вдовствующая королева довела до такой степени забвение этикета, что до женитьбы Людовика ХIV, дамы, состоявшие при ее особе, не имели стола во дворце. «После ужина королевы, рассказывала мне госпожа Моттвилль: – мы питались объедками то на углу сундука, то стоя, утираясь полотенцами и довольствуясь иногда одним хлебом».
Во время обновления придворных обычаев, духовник Марии-Терезии, испанский монах, необыкновенно сурового нрава, кричит и выходит из себя против молодости, окружающей ее величество. Комнаты фрейлин в особенности служат предметом его суровых укоров…
Кардинал отменил у себя выходы и по вечерам принимает только игроков. Он возвратился из Сен-Жан-Люза больным и до сих пор не может еще поправиться. Король созывает совет в спальне первого министра; часто принимаются там и посланники, при которых его эминенция не стесняется в приеме разных лекарств, что этим иностранцам кажется не совсем дипломатическим. Государственные секретари приходят поочередно работать у постели кардинала; Бриенн, сумевший еще прежде заслужить доверие кардинала, призывается чаще товарищей: живой и блестящий ум молодого графа развлекает немного хилого итальянца. Но голова эта еще слишком молода для восприятия государственных секретов, а в особенности частных тайн, честолюбивого распорядителя судеб Франции. Вот случай, который мог бы погубить первого министра, если бы получил огласку: Бриенн не мог не рассказать его девице Меннвилль, ибо любовь ничего не умеет скрыть; но девица Меннвилль, которая не может похвалиться скромностью, также как и верностью управляющему Фуке, рассказала все, герцогу Дамвиллю, от которого я и слышала.
Бриенн писал депеши под диктовку Мазарини, прикованного к постели припадком подагры. Его эминенции встретилась надобность в каких-то бумагах, хранившихся в шкатулках, которые стояли у кровати, и он отдал ключи государственному секретарю…. Но, вследствие неточного указания, граф отпер не ту шкатулку, а, желая удостовериться – ту ли он взял бумагу, он прочел надпись на связке:
«Акт, по которому Испанский король обещал мне не противиться назначен моему на папский престол после смерти Александра VII, с условием, что уговорю французского короля довольствоваться городом Авеном вместо Камбрая, которого требовал от его имени у Испании».
Бриенн, читавший эту заметку на ходу, вдруг остановился, словно прикованный удивлением, которое замечено было на лице графа кардиналом.
– Вы ошиблись шкатулкой, воскликнул побледнев Мазарини.
– Действительно, монсеньер, и клянусь вам, что случайная ошибка…
– Знаю, молодой человек, вы не могли угадать, что там находится этот акт… Но если, как я полагаю, вы в душе согласитесь, что тиара весьма стоит нескольких лачуг, обнесенных рвом, то будете настолько умны и рассудите, что звание государственного секретаря стоит дороже нескромности. Я не скажу больше.
– Прошу вашу эминенцию верить, что моя преданность, мое уважение…
– Хорошо, mio caro, но интерес, любезный интерес – вот решительный повод. Ну, прибавил кардинал, принимая вдруг веселый тон: – что вы скажете?
– По моему мнению, ваша эминенция будете также хорошо носить тиару, как носите в настоящее время корону.
– Тс! Льстец!
– Сидеть на римском престоле – нетрудная обязанность: сжимать одну руку, чтобы давать благословения каждому приходящему и держать другую раскрыв для получения червонцев с христианства – вот и вся тайна искусства царствовать в Ватикане.
– Да, убежище довольно приятное для первого министра.
– И я желаю, чтобы оно скорее досталось вашей эминенции: я надеюсь, что вы не откажете присоединить ко всем своим милостям отпущение и для меня.
– Увидим; но вы не торопитесь увеличивать массу грехов, ибо экипаж, который должен увезти их, ненадежен.
В эту минуту кто-то вошел к кардиналу и помешал продолжению разговора; Мазарини успел только рекомендовать молчанье, приложив палец к губам, на что государственный секретарь отвечал приложением руки к сердцу. Девица Меннвилль, герцог Дамвилль и я знали цену этой скромности, обещанной с такой преданностью: будущий папа не рассчитывал бы на нее, если бы знал, что Бриенн был влюблен.
Я видела на палеройяльском театре веселую комедию в трех актах и в стихах под заглавием «Школа мужей». Пьеса эта, принятая публикой очень хорошо, принадлежит Мольеру, который обнаруживает много ума и необыкновенно верную наблюдательность. Господин Визе, редактор «Любовного Меркурия» уверяет, что у Мольера много недостатков; но Корнель говорит, что это комическая голова, устроенная по образцу Теренция, а я охотнее разделяю суждение автора Цинны, нежели мнение маленького журналиста. Монсье, которому посвящена новая комедия, весьма благосклонно принял эту дань; его высочество после представления приказал позвать к себе поэта и обещал ему покровительство.
Почувствовав себя лучше, кардинал захотел присутствовать при репетиции балета Бенсерада, который должен был идти через несколько дней в Лувре в портретной галлерее. Мне хвалили великолепные декорации. Роскошной его обстановкой заинтересовали также и молодую королеву, так что духовник не мог отговорить ее не присутствовать на балете, несмотря на все громы его против этого зрелища, названного им безнравственным. Но тут на помощь красноречию монаха явился пожар: несколько искр, попавших в декорацию, превратили ее в пепел; пламя не пощадило также и королевских портретов, писанных Жане, и Пробусом, а равно и плафона, на котором Фремине изобразил Генриха IV в виде Юпитера, поражающего лигеров в образе Титанов.
Кардинал, вынесенный на руках телохранителей, удалился в свой великолепный дворец в улице Нев-де Пети-Шан, не заботясь об участи обеих королев и короля; к счастью наиболее преданные слуги во время спасли их величества. Надобно было послушать, как духовник молодой королевы гремел по поводу этого пожара, посланного, как он говорил, самим Богом, для предупреждения кардинала, своего неверного служителя, что он не одобрял ни безнравственных театральных зрелищ, ни требуемых ими безумных расходов. Мария Терезия, наделенная слабым характером, поверила этим суеверным объяснениям; она горько оплакивала свой грех и искупала его сокрушением и усиленными молитвами. Таким образом, инфанта, удаляясь от всего, что льстило ее блестящему супругу, способствует сама к охлаждению пламенной его любви к ней и приготовляет неверности, к которым он очень склонен.
В то время, как испанский поп употреблял в свою пользу обстоятельство пожара, один августинский монах с опасностью жизни старался потушить его. Этот монах проникнутый более осязательным рвением, нежели собрат его проповедник, велел привязать себя к потолку железной цепью, и, вися среди пламени, сбрасывал сверху горевшие столбы и перекладины. Не знаю, заслужит ли этот полуобожженный человек награду, но, конечно, рвение его больше нежели, у духовника королевы.
Кардинал находит некоторое удовольствие среди роскоши и богатств, собранных в его дворце; вид этой пышности облегчает ему на мгновение болезнь, быстро разрушающую его жизнь, изнуренную удовольствиями и трудом. Его возят в кресле по длинному ряду пышных комнат, из которых каждая стоила не менее тридцати тысяч экю; бронза, барельефы, статуи, картины, все это было там в изобилии, но расположено со вкусом, присущим итальянскому декоратору. Роскошь и щегольство мебели отвечают великолепно покоев.
Прогуливаясь по своим залам, Мазарини захотел также видеть и библиотеку в тридцать тоазов длины, которую Габриель Поде по его приказанию, собрал с большими издержками во Франции, Голландии, Фландрии, Англии и Италии. Наконец даже его эминенция велел отнести себя в свои огромные конюшни, на которые иностранцы смотрят, как на восьмое чудо. Кардинал улыбнулся при виде великолепно вышитых попон, и которых отцы театины[6] так настойчиво просят у него для украшения храма.
Но подобное развлечение не надолго облегчило существенные страдания Мазарини, которые дошли до такой степени, что он потребовал консилиума: я узнаю все подробности от доктора Гено, который один из всего ученого собрания решился сказать правду больному. Истина действительно была горькая. У меня записана любопытная сцена, происходившая по этому случаю между ученым доктором и кардиналом.
– Я нашел, сказал он мне: – его эминенцию в спальне; он лежал, опрокинувшись в кресле. – «Это вы, Гено»? спросил он меня не оборачиваясь: «Да, монсеньер». – «А, тем лучше; я ожидал вас с нетерпением; заприте дверь, садитесь возле меня, и ми побеседуем». – «Увы, я хотел бы поговорить с вашей эминенцией о предмете менее печальном, нежели тот, который приводит меня к вам». – «Неужели вы полагаете, что я ожидаю от вас рассказа о новой комедии! Я предвижу, что вы хотите сказать и приготовился». – «Не следует льстить вашей эминенции». – «Нет, время лести для меня прошло… Вы пришли объявить мне смертный приговор». – «Да, но лекарства наши могут продлить вам жизнь». – «Сколько времени, Гено»? – «По крайней мере, два месяца, монсеньер». – «Это больше, нежели я надеялся». – «По крайней мере, достаточно для приготовления к этому страшному путешествию». – «Да и нет, друг мой: этого было бы достаточно, если бы речь шла об устройстве земных дел. «Но там выше… О, доктор! какой отчет»! – «Не теряйте бодрости, монсеньер; в шестьдесят дней можно исходатайствовать отпущение, особенно кардиналу и первому министру». – «Без сомнения, мне ревностно будут служить важные духовные лица, жаждущие моих аббатств и моих сокровищ. Но верховный судья!.. Наконец я употреблю на молитву время, которое вы мне обещаете… Поговорим о вас, Гено. Я очень доволен за откровенность, с которой вы принесли мне смертный приговор: пользуйтесь же не многими минутами, какие мне остались, устроить себя при моем содействии; что же касается меня, я воспользуюсь вашим советом. Прощайте, друг мой, прибавил его эминенция, протягивая мне пылавшую руку: – подумайте хорошенько о том, что я могу сделать для вас, и заходите почаще».



