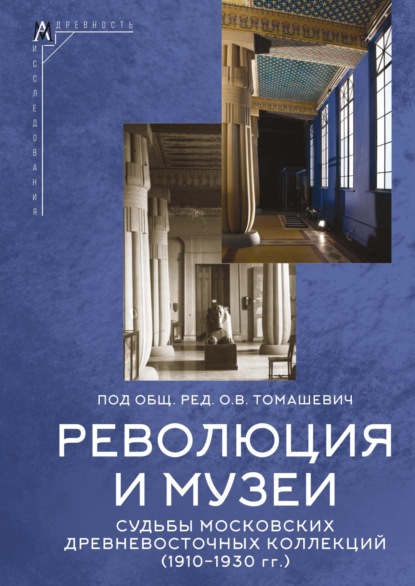
Полная версия:
Революция и музеи. Судьбы московских древневосточных коллекций (1910–1930 гг.)
Древнеегипетские тексты, как многие древневосточные произведения, не имеют заглавий. В Месопотамии часто их обозначали просто по первым словам, как и библейские тексты (Книга Бытия = «В-начале»). Для удобства их называют сами публикующие их египтологи, почему названия иногда немного отличаются (тот же Синухет предстает то как «Рассказ Синухета», «Повесть о Синухете», то «История Синухета» или «Странствия Синухета»). Папирусы часто также называют по имени их первого владельца: в 1857 г. прекрасный папирус с литературным текстом был куплен Британским музеем у леди д‘Орбиньи, почему и получил такое название (в русс. передаче также: папирус Орбиньи, д‘Орбини, Орбиней, Orbiney). Сохранившуюся на нем «Повесть…» или «Сказку о двух братьях» (иногда просто: «Два брата») и издаст в этой серии с обширным предисловием и комментариями В.М. Викентьев[106]. Это был первый перевод на русский язык с оригинального иератического текста и сделает он эту публикацию на высоком уровне. Он, действительно, хорошо знал и чувствовал литературу, почему эта небольшая книга сохраняет значение. Досадно, но в отечественной историографии она была почти забыта, как и ее автор. В комментариях к лучшей подборке литературных произведений, академическом издании знаменитой серии «Литпамятники», упоминается только название книги[107], а в более современной публикации новых переводов книги Викентьева нет даже в списке литературы[108].
Следует заметить, что литературоведческое изучение древнеегипетского наследия и сейчас в определенной степени сдерживается нашими недостаточными знаниями о древнеегипетском языке, поэтому древневосточная проблематика, как правило, не включается в курсы истории и теории литературы даже филологических факультетов университетов. Поэтому для начала ХХ в. работа Викентьева была во многих отношениях очень значимой. Переводу предшествует объемное – 27 страниц – предисловие, где автор, указав, что литературные тексты Древнего Египта стали обнаруживать с середины ХIХ в., переходит к краткому обзору сказок долины Нила, а затем прослеживает историю находки и переводов папируса д’Орбиньи (в примечаниях к своему переводу он указывает варианты предшественников). При этом он тщательно отмечает 4 перевода на русский и один на украинский, сделанных не с оригинала, а с французского языка. Викентьев переводил с издания иератического текста Георга Мёллера, сличая его с факсимиле С. Бёрча (оба издания актуальны и сейчас). Подробно Викентьев останавливается на авторстве повести, отвергая в качестве такового указанного в колофоне Энанну (Инанну) и пеняя переписчику за описки и ошибки. Интересны историографические очерки по рассмотрению сюжетов «Повести» немецким ученым Лейеном (использующим «крайние анатомические приемы») и французским Масперо, с которым Викентьев тоже спорит, говоря о единстве руководящей идеи произведения. Далее автор обращается к сложному вопросу о египетском дихотомизме, являющемся основной чертой «Повести», как внешнеструктурной, так и внутреннепсихологической. Этот дихотомизм находит себе выражение в двух основных рефренах временного порядка. Также он отмечает наличие аллитерации и ассонанса. Несколько страниц Викентьев посвящает рассмотрению образа главного героя – Баты, «кроткого и мудрого простеца, покорного воле людской и божественной» и готового «терпеливо принять крайнее страдание». За этим следуют характеристики второстепенных персонажей, старшего брата Анупу, «хозяина», не терпящего «чтобы его достоянию наносился ущерб», и неверной жены Анупу-Баты, «отрицательный полюс напряженного нравственного поля», что, однако, является инсинуацией на исторический тип египетской женщины. Любопытны гипотезы о божественных прототипах главных героев «Повести», построенные с учетом исследований корифеев египтологии: А. Эрмана, Г. Масперо, А. Гардинера, Э. Навилля. В центре книги помещен перевод (с. 29–51), а вместо заключения – комментарии и фольклористические сопоставления (с. 53–94). Если перевод снабжается примечаниями в основном филологического плана, то в последней части развернутые комментарии даются по страницам; среди них очень много сопоставлений с произведениями мировой литературы, от истории библейского Иосифа до тюркской сказки об Идыге и т. д. Сопоставление Баты с Кощеем Бессмертным явно увлекло автора, и он сам ограничивает свое описание, переходя к еще более трепещущему вопросу – об отношении к судьбе. Один из последних экскурсов – мотив превращений в сказочной литературе. Викентьев качественно проводит литературоведческий анализ текста, похоже, прочитав все, что тогда было написано по поводу «Повести» египтологами и неегиптологами (так, он специально останавливается на статье В. Стасова, первым открывшего «Повесть» русскому читателю, подчеркивая принадлежащее ему сопоставление египетской истории с историей царевича Сиавуша из «Шах-Намэ» «как единственно сколько-нибудь удачное»[109].
Теперь, когда стала известна тема его, как ныне определили бы, дипломной работы («сочинения»), стало понятно, что Викентьев работал над «Повестью о двух братьях» в течение нескольких лет и успел отработать перевод и глубоко проанализировать историографию, тем более что теперь курировал эту первую значительную научную публикацию Борис Александрович Тураев. Его помощь была значительна как при переводе и комментировании, так и в указаниях на научную литературу. Тураев внимательно просмотрел всю корректуру, сделав ряд важных исправлений, порекомендовал куда разместить иллюстрации, какие подписи под ними сделать. И это при том, что он был чрезвычайно занят преподаванием и публикацией памятников голенищевской коллекции!
По поводу предстоящей публикации «Повести о двух братьях» Тураев посылает Викентьеву открытку 15 марта 1916 г.:
Дорогой Владимир Михайлович!
Сердечно благодарю Вас за хлопоты и извиняюсь, что причинил их [речь идет о покупке билетов на поезд. – О. Т.[110]]. Не забудьте возстановить «наследного царевича» со ссылкой, что он обычно означает в эпоху Нового царства[111] – я нашел целый ряд указаний. Пусть пришлют и мне корректуру комментария. Феникс есть и у Вилькинсона и у Эрмана. Если будете у Левенсона[112], напомните ему, чтобы он прислал мне проэкты таблиц к описанию статуй нашего музея[113]. Всего 12 табл. с 42 иллюстрациями.
Ваш Б. Тураев[114]
Приведем также фрагмент письма об иллюстрациях, которых в книге очень много:
Б. А. Тураев – В. М. Викентьеву
12. V.16
Дорогой Владимир Михайлович!
Наконец я в состоянии отправить Вам корректуру. Два дня возился с зубной болью и не мог заниматься, а тут еще множество других дел. Вот на чем я остановился в вопросе об иллюстрациях: […] ИЛИ <…>
3) На стр. 53 вверху будет ложе Осириса или бегающий бык. Если последний останется за порогом, его можно поместить над «оглавлением» или даже, оставляя на 48–49 по-старому, вставить его же на стр. 50. Но что тогда будет на стр. 25? О последней странице мы уже говорили.
Не совсем понимаю, что Вы хотите сказать на стр. 5. Как может лакуна, т. е. пропавшее место папируса уже в наше время, носить следы древних поправок? […]
Не заменить ли «башню» чем-либо другим – напр. «высокий дом», «усадьбу» и т. п. Дело в том, что это слово в яз. новоегипетских текстов получило более широкое значение и стало употребляться для отдельно построенного здания.
На конце отметьте откуда взяты рисунки, ибо у меня не отмечено. […]
Кланяйтесь музейским. Поклон Вашей супруге.
Ваш Б. Тураев[115]
По поводу слова «башня» Викентьев делает следующий интересный комментарий: «„Бехен“, что собственно значит „пилон“, „башня“; ср. bahan у пророка Исайи, 32, 14 („сторожевая башня“). В нашем случае вероятно, имеется в виду прохладный высокий дом с окнами в верхней части стены, подобный изображенному в заупокойном папирусе Нехента (Брит. Муз.) как его небесная обитель. См. рис. стр. 28. Вообще „дача, вилла“. Ср. в любовной песенке Лондон. папирус II, 11…»[116]
Когда работа уже приближается к окончанию, Тураев обнаруживает ошибку в подписи (открытка от 13 ноября 1916 г.):
Дорогой Владимир Михайлович!
Просматривая «Двух братьев» с ужасом увидал в оглавлении рис. 53 «Осирис на погребальной молитве» вместо «на погребальном ложе». И угораздило же на такую штуку! Т. к. экземпляры переплетаются постепенно, то может быть перепечатаем последнюю страницу – ведь скандал!
Всего хорошего,
Ваш Б. Тураев[117].
Согласно анкете Викентьева, он занимался «в семинарии у Тураева» 2 года. Известно, что лекции последнего для Высших женских курсов часто проходили прямо в Египетском зале Музея изящных искусств[118]. Очень возможно, что приходил туда и Викентьев, хотя письменных свидетельств мне не попадалось. Есть фотография, где он запечатлен в зале вместе с Б. А. Тураевым и Т. Н. Бороздиной.
Итак, первая книга Викентьева под ред. Тураева выйдет в роковом 1917 г., к тому времени он уже почти два года проработал в Историческом музее имени императора Александра III (восточные коллекции), где в 1915 г. получил место помощника хранителя[119]. К сожалению, Архив ГМИИ не дает сведений, кто из профессоров дал ему необходимые рекомендации (это могли быть связи семьи Сизовых, ведь дядя Марии Ивановны сыграл важную роль в становлении музея, да и сам Викентьев к этому времени знал многих в этой среде).
Исторический музей стал первым и фактически последним местом работы Викентьева в России. Познакомившись с коллекциями, он сначала активно включается в вопросы их хранения и пополнения. Как свидетельствует переписка с М. В. Никольским, Викентьев заботился о надлежащем помещении клинописных памятников в музее, а в конце 1915 г. всерьез планировал экспедицию при штабе Кавказской армии по изучению и спасению древностей[120]. Начинающего музейщика волновала судьба гибнущих в огне военных действий памятников Армении и Персии, а на его родине уже тлели искры революционного пожара… Несмотря на пессимистическую реакцию Никольского, Викентьев пытается что-то делать с помощью Б. А. Тураева, который пишет директору музея, князю Н. С. Щербатову. Эта позиция русского ученого актуальна и сейчас, поэтому приведем это письмо:
Б. А. Тураев – Н. С. Щербатову
Москва
12. XII. 1915
Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый Князь Николай Сергеевич.
Беру на себя смелость обратиться к Вам по делу, близко касающемуся отечественных музеев и нашей археологии. Все тревожнее становятся известия о гибельных для памятников старины и искусства событиях в Армении и Персии. Разгром Вана уже совершившееся бедствие, уничтожившее в несколько дней нашего «культурного» века плоды тысячелетних цивилизаций. Не меньшая опасность грозит и со стороны персидской смуты, которая уже вызвала движение наших войск, занявших недавно другую столицу Мидии – Экбатаны, ныне Хамадан, и приближающихся к современной столице Персии, Тегерану по-видимому, расположенному на месте древних Раг мидийских. Долг нашей науки вообще, и Императорского Исторического Музея в особенности, принять на себя попечение о сохранении памятников искусства, письма и художественной промышленности в областях, ныне занятых нашими войсками, и спасти в них для наших музеев, что еще возможно спасти от неминуемой гибели. Не будем забывать, что агенты западных музеев, особенно Берлинского, и скупщики для частных коллекционеров Западной Европы и Америки давно уже хозяйничают на нашем Кавказе, в Армении и Персии, и в настоящее время усиленно скупают за безценок и увозят то, что должно составлять неотъемлемую принадлежность наших музеев, особенно Императорского Исторического, в задачи которого входит хранение памятников древне-восточного, армяно-грузинского и мусульманского прошлого Кавказа, культура которого тесно связана с примыкающими к нему Арменией и Персией. Если бы Императорский Исторический Музей взял на себя почин в этом великом деле, то его поручение мог бы, как я полагаю, исполнить В. М. Викентьев, Помощник Хранителя в Музее. Благодаря своим связям он мог бы при сравнительно скромных затратах приобрести значительное количество предметов: его занятия в России персидским искусством подготовили его с научной стороны для этой почетной миссии.
Примите уверения в моем глубоком почтении и преданности.
Глубоко уважающий Вас
Б. Тураев[121]
Но эта экспедиция не состоялась. Причем, отчасти, вероятно, и из-за конкуренции отдельных ведомств и представляющих их ученых. М. В. Никольский, рассуждая о сложностях кавказской экспедиции «на театре войны», пишет: «Я уверен, что Археологический Музей в этом деле окажется солидарным с Археологическим Обществом <…>, иначе и у нас выйдут неурядицы и столкновения вроде того, что кажется уже происходило между Москвою и Петроградом на этой почве. Действовать вразброд и узурпировать монополии, это – к сожалению, плохая и не ведущая к добру повадка командующей петроградской науки (особенно в лице Н. Я. Марра)»[122].
В самом конце 1916 г. в переписке появляется новая тема:
Б. А. Тураев – В. М. Викентьеву
19. XII.16
Дорогой Владимир Михайлович!
Не знаю, как и благодарить Вас за Ваш труд[123]. Поздравляю Вас с началом музея Вашего кружка [курсив наш. – О. Т.], коего библиотеки я здесь забочусь: отложил Христ<ианский>вр<еменник>, 5 томов Записок <Императорского Археологического Общества> и еще кое-что. Опять принужден беспокоить Вас. Уже нельзя достать у нас билетов на 1 января […]. Как мне ни совестно, но опять прибегаю к Вашей доброте помочь мне и этим. Хороших праздников. Поклон супруге.
Ваш Б. Тураев[124].
Речь может идти о «кружке по изучению древних культур», который Викентьев, прошедший школу разных оккультных кружков, начинает организовывать в конце 1916 г. Обращаясь к М. В. Сабашникову за поддержкой, он пишет: «В России есть отдельные крупные ученые, но нет сплоченных и жизненных научных ассоциаций»[125]. Сабашниковы откликнулись подарком 13 книг будущему кружку в том же 1916 г.[126]
Планы Викентьева не ограничивались только московскими участниками, однако, мир ученых, как всегда, был далек от состояния мирного сосуществования. Процитируем несколько строк из черновика письма Викентьева к Мстиславу Алексеевичу Харузину[127] в Петербург: «[…] А. А. Флоренский[128], приехавший в месячный отпуск в Москву [из действующей армии. – О. Т.]. Я Вам говорил о нем и о своем предложении, что он может оказаться и по личным качествам и по своим знаниям полезным членом нашего общества изучения древних культур, которое изучая древности, в то же время не порывало бы связи с временем жизни и русской культурою, вообще будучи строго научным… Желательно привлечь Шилейко[129], для усиления египетской группы пригласить Струве[130] и Волкова[131]»[132].
Сохранился и ответ Харузина от 4 декабря 1916 г.: «Несмотря на некоторые неблагоприятные явления в Музее [имеется в виду Эрмитаж, где занимался автор письма? – О. Т.], наш кружок не распадается, а наоборот, благодаря вашим трудам расширяет свою деятельность. Не могу не приветствовать участие в нем А. А. Флоренского, без сомнения, окажущегося ценным сотрудником нашего пока еще так называемого „общества“. Мои симпатии к Владимиру Казимировичу Шилейко Вам, конечно, известны […] Волкова я совсем не знаю, что касается Струве[133], то не совсем уверен может ли он сочувствовать идее общества идущего в курсе современной русской культурной и общественной жизни, т. е. борьбы с немецким влиянием в нашей науке? […]»[134].
Вслед за А. А. Флоренским Викентьев приглашает к участию в кружке (как он сам пишет: «пока „Кружка“, впоследствии, надеюсь, „Общества“») его брата, о. Павла: «Мы хотели бы объединить научные силы, преимущественно молодые, представителей мысли, философской и религиозной, в широком и глубоком смысле слова, наконец, практических деятелей, на основе жизненных задач России и под флагом исследования великих сокровищ древности, преимущественно, Востока, и их отражения и переживания в позднейшие времена и в современности. Пока у нас представлены – древнейший Вавилон (Шилейко), древн.<ий> Египет (Тураев, Викентьев), Хетты и М. Азия (Харузин), Крито-Микенская культура (Сидоров), Кавказ (А. Флоренский, Млокосевич), Персия и Индия (Гурко?). В виду выраженного Вами, как мне говорил Ал. Ал., интереса к этому начинанию, я позволяю себе от имени членов Кружка предложить Вам принять в нем участие»[135]. Видимо, последовало согласие, т. к. А. А. Флоренский в письме Викентьеву от 31 января 1917 г. был рад, что о. Павел присоединился к Обществу по изучению древних культур и советовал Викентьеву привлечь Вяч. Иванова, ибо он очень пригодится «и влиянием и знаниями»[136]. С отцом Павлом Викентьев некоторое время сотрудничал: их переписка датируется 1916–1919 гг., причем в основном документы относятся к первой половине 1917 г.[137] Их переписка касается организации и деятельности Кружка по изучению древних культур и проблем книгопечатания (в частности, труда Флоренского о Каббале). Поразительно, но оба респондента почти не упоминают политических событий в стране, если не считать ссылок на ненадежность почты (однако, судя по штемпелям, отправления доходили из Москвы в Сергиев Посад примерно за сутки). А вот связи с Ивановым не прослеживаются, хотя очень вероятно, что они были знакомы.
4 июня 1917 г. в Москве на квартире Сизовых в доме у храма Христа Спасителя состоялось первое собрание Кружка по изучению древних культур[138]. Викентьев сделал сразу 2 сообщения: «Сказка об обреченном царевиче» (он продолжает разрабатывать тему литературы) и «Литургия Амону-Ра». По поводу своего второго сообщения он писал о. Павлу Флоренскому 9 июня 1917 г.: «Литургические тексты, в частности египетские, требуют к себе иного отношения, чем тот историзм, с которым подошел к ним в своем возражении Тураев. И то, что я говорил о храме, как и следовало ожидать, не нашло себе должного отклика и дальнейшего углубления ни в Тураеве, ни в Мальмберге, ни в Городцове. Все же, как выступление „Кружка“ следует признать собрание удачным, и, думается мне, слова, сказанные мною в заключение – „Мы должны иметь мужество и честность признать, что многое в текстах нам совершенно непонятно; но того немногого, что мы все же улавливаем в них, достаточно, чтобы признать их за великое создание“ – эти слова, говорю я, по-видимому, обнаружили, что немецкая школа, возводящая свое аналитическое скудоумие в догмат, найдет во мне противника. Тураев был несколько испуган. Молодежь торжествовала»[139]. Увы, с историзмом у Викентьева было, действительно, плохо, его зрелые работы вызовут справедливую критику. А вот с громкими заявлениями – хорошо, молодежи (Авдиеву? уж точно не Т. Н. Бороздиной), видимо, нравилось. За № 11 в списке присутствовавших – «Б. Тураев»[140], редкий знаток древнеегипетской религии, которого не напугала бы констатация величия египетских литургических текстов. А вот А. А. Флоренский явно забеспокоился и 28 марта того же года пишет Викентьеву из Луцка: «Сегодня написал письмо Борису Александровичу [Тураеву. – О. Т.]. Продолжает ли его отношение к нам быть благожелательным, или все это изменилось? …[141]» Но протоколов заседания нет, посему судить о чем-либо более уверенно невозможно. Примечательно, что входная плата составляла 1 рубль «в пользу Библиотеки Кружка». Любопытны финансовые документы Кружка: кроме входной платы, его средства составляли пожертвования устроителей «Выставки „Семь“», библиотечные взносы (?), выручка от продажи 4 экз. книги И. М. Волкова «Бог Себек» и пожертвованной А. А. Флоренским персидской миниатюры. Деньги шли прежде всего на приобретение книг: благодаря Тураеву были куплены со скидкой в 60 % «Записки Императорского Археологического Общества» (о которых он, видимо, писал 19 декабря 1916 г.), также Тураев дарил и свои книги.
Второе собрание состоялось 14 февраля 1918 г., причем величина входной платы поднялась до 6 рублей. Из египтологов оба раза приходила Т. Н. Бороздина. Продолжает пополняться библиотека Кружка: в 1918 г., вероятно, при содействии Тураева, были куплены 4 ящика книг у вдовы О.Э. фон Лемма, Е. Э. Лемм. Книги жертвовали и другие члены Кружка, причем известно, что Викентьев помогал доставать научную литературу некоторым интересующимся египтологией (В. Л. Максутов, Е. А. Пасыпкин)[142]. Подпись Валерия Брюсова стоит под уведомлением от 6 августа 1918 г. о выделении 5 000 руб. на книги для Общества (поэт тогда заведовал Библиотечным Отделом Наркомпроса)[143]. Итак, Кружок уже именуется Обществом по изучению древних культур, а В. М. Викентьев играет в нем ведущую роль. Под Уставом общества, датированным 19 июля 1918 г., его подпись стоит первой в списке членов-учредителей[144]. Продвигается карьера Викентьева: в 1918–1920 гг. он именуется в документах Исторического музея «зав. Отделением религиозных древностей» (и «по сему является ответственным работником»)[145]. Последней вехой «университетов» Викентьева стал курс древневосточных языков (каких именно не уточняется) в Лазаревском Институте в 1918 г., необходимый ему для разбора восточных коллекций Исторического музея[146].
Трудно представить, как тяжелы были для многих членов Общества постреволюционные годы. М. В. Сабашникова вспоминает, что не всегда знала, где она будет ночевать и что будет есть… Бедствовал профессор Санкт-Петербургского университета Б. А. Тураев, и его ученица Т. Н. Бороздина пыталась ему помочь[147]. Яркое свидетельство бытовых сложностей постреволюционного времени оставил Андрей Белый, нелестно отозвавшийся о приютивших его у себя с февраля 1918 г. до весны 1919 г. Сизовых. Позднее (11 ноября 1921 г.) он писал Асе Тургеневой, своей бывшей жене: «Я жил в это время вот как: – в небольшой комнате, окруженный Сизовыми, (за стеной баранье блеянье М. И. Сизовой и брюзжанье Викентьева; за другой отвратительное квохтанье старухи матери Сизовой); у меня в комнате, в углу была свалена груда моих рукописей, которыми 5 месяцев подтапливали печку; всюду были навалены груды григоровского[148] „старья“, и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама при температуре в 6–4°, в зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами просиживал я при тусклейшем свете перегоревшей лампочки или готовя материал для лекции следующего дня, или разрабатывая мне порученный проект в Т. О. (Театральный Отдел), или пишучи „Записки Чудака“, в изнеможении бросаясь в постель часу в 4-м ночи; отчего просыпался я не в 8, как Сизовы (глубокие мещане, мещанством загнавшие меня в угол), а в 10 и мне никто не оставлял горячей воды»[149].
Однако люди работали. Похоже, позиция организатора и ведущего члена Кружка/Общества не покрывала амбиции Викентьева и он начинает создавать новую организацию, где для себя он запланировал главный пост. Обстоятельства тех лет, как ни странно, давали возможность для воплощения необычных идей. В казусе Викентьева сыграли роль не только его активность и организаторские способности, научные достижения и таланты, но также его знакомства в неожиданной сфере – среди антропософов. Все ведущие деятели культуры Серебряного века так или иначе были знакомы с этим учением, а порой являлись его горячими поклонниками. Что еще более существенно – они занимали серьезные должности в создаваемых новых государственных учреждениях. Викентьев явно на них рассчитывал и его расчеты оправдались.
Роль административного рычага играла для Викентьева Коллегия (Отдел) по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса), созданная в 1918 г. по инициативе И. Э. Грабаря. М. В. Сабашникова в общих чертах достоверно описывает ее историю: «…художник Грабарь, наш друг Трапезников и искусствовед Машковцев обратились к правительству с предложением дать им полномочия охранять ценные памятники искусства и культуры от разрушения и грабежа. Из этого возникло большое учреждение „Охрана памятников искусства и старины“. Во главе этой организации стояла жена Троцкого, ничего не понимавшая в искусстве. Трапезников стал ее правой рукой. Так появилась возможность сделать много хорошего для искусства, а также и для отдельных людей. Были спасены не только дворцы и художественные коллекции, но также и владельцы… Трапезников своей добросовестностью и обширными знаниями заслужил на этой работе всеобщее уважение». Трифон Георгиевич Трапезников (1882–1926), действительно, был замечательно образованным человеком, он учился в университетах Лейпцига, Гейдельберга, Мюнхена, Парижа и по всей Европе собирал материал по своей диссертации («Портреты семьи Медичи 15 в.»). Трапезников участвовал в строительстве Гётеанума и был «гарантом» русской группы в Дорнахе[150]. Один из основателей антропософского движения в России, он с 1921 г. возглавлял его московское отделение. В этой коллегии, кроме Трапезникова, работало много антропософов. Искусствовед Николай Георгиевич (Егорович) Машковцев (1887–1962), сотрудник издательства «Мусагет», тоже ездил на лекции Р. Штейнера в 1913 г., а в Музейном отделе Наркомпроса руководил подотделом провинциальных музеев[151].



