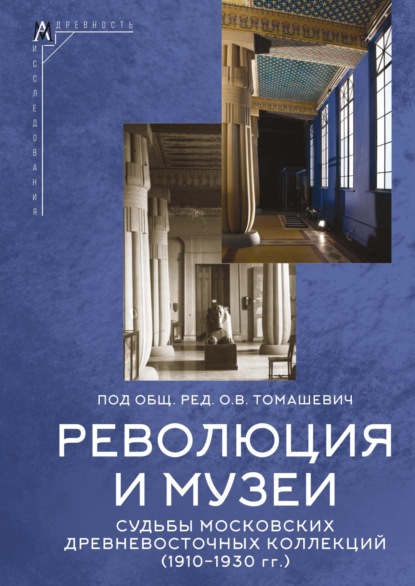
Полная версия:
Революция и музеи. Судьбы московских древневосточных коллекций (1910–1930 гг.)
Но не только из-за увлечения культурой и религией долины Нила Викентьев в 1906–1907 гг. путешествует по Европе. М. В. Сабашникова, ставшая художницей, вышла в 1906 г. замуж за Максимилиана Волошина[20] и после свадьбы они уехали в Париж слушать лекции будущего основателя антропософии Рудольфа Штейнера (1861–1925)[21]. В конце мая 1906 г. Викентьев получил известие от Маргариты: «Штейнер сегодня начал курс своих лекций и приглашает русских, интересующихся оккультизмом; я подумала о Вас. <…> Думаю, что Штейнер Вам может дать очень много»[22]. Она оказалась абсолютно права, Викентьев увлекся его лекциями и даже посещал мистериальные драмы в разных городах, что предполагает определенный уровень посвящения[23]. Лекции Р. Штейнера были весьма необычны как по содержанию, так и по форме. На последней сказывалось влияние соратницы и второй супруги «Доктора»[24] – прирожденной актрисы и удивительной женщины Марии Яковлевны фон Сиверс. Большое внимание уделялось обстановке лекций: цвету стен, мебели, костюмам, особенно если речь шла о мистерии. Все это объясняет органичное включение Викентьева в состав учредителей Дворца искусств и его своеобразную деятельность в созданном им МИКВ (см. Главу 2).
Яркая, искренняя натура Р. Штейнера, его гуманизм, убежденность в духовности мира и многосторонние глубокие знания производили сильнейшее впечатление на очень многих выдающихся людей науки и искусства, и Викентьев не был исключением[25]. Владевшему им интересу к истокам культуры отвечали мысли Штейнера о сохранении человеческим разумом воспоминаний о предыдущих жизнях и иных эпохах. Древний Египет с его удивительной религией, красивыми и необычными для европейского глаза памятниками всегда привлекает оккультистов и любителей тайных обществ[26]; у Штейнера был даже цикл из 12 лекций «Египетские мифы и мистерии». Воображение уже зараженного «бациллой египтомании»[27] Владимира Михайловича волновали упоминания Доктором таинственной Изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, священного текста в Обществе розенкрейцеров, активным членом которого состоял Штейнер. В 1902 г. он возглавил Германское отделение Теософского общества, под «грифом» которого изданы его основные труды. Однако учение Штейнера мало зависело от теософской традиции и в 1912 г. Доктор основал Антропософское общество. За ним пошли его русские почитатели.
В этом кругу Викентьев познакомится со многими соотечественниками, которые в дальнейшем войдут в основанное в 1913 г. Русское Антропософическое (впоследствии Антропософское) общество и эти связи окажутся очень важны для его дальнейшей уже профессиональной деятельности музейщика. Например, Т. Г. Трапезников, с которым они, вероятно, встречались на лекциях Доктора за границей[28], Б. П. Григоров, Н. П. Киселев и другие.
В этом кругу Викентьев обретет свою первую супругу, Марию (впоследствии Магдалину – это имя она выбрала себе сама) Ивановну Сизову (1894–1969)[29]. Она выросла в семье художника, потомственного дворянина Ивана Ильича Сизова. Ее дядя, археолог Владимир Ильич Сизов (1840–1904) являлся членом и секретарем Московского археологического общества, позднее ученым секретарем Российского Исторического музея и много сделал для пополнения его коллекций[30].
Брат Марии, ровесник Викентьева, Михаил Иванович Сизов (1884–1956)[31], входил в ядро литературного кружка «Аргонавты» (Б. Н. Бугаев[32], Н. П. Киселев[33], А. С. Петровский[34], Л. Л. Кобылинский[35] и др.). Неслучайно последний называл кружок «тайным обществом»: до этого многие из них состояли в кружке спиритуалистов, а под влиянием А. Р. Минцловой[36] они увлеклись идеями Р. Штейнера и розенкрейцерами[37]. В 1909 г. практически эти же люди создают издательство «Мусагет», при котором в 1911 г. Эллис с Б. П. Григоровым[38] организуют кружок по изучению работ Р. Штейнера. Вместе с С. П. Григоровым, М. И. Сизовым, А. С. Петровским, М. В. Сабашниковой, Т. Г. Трапезниковым, А. Тургеневой, В. О. Нилендером и др. входит в этот кружок и В. М. Викентьев[39].
Вернемся к его избраннице: Мария Сизова была хороша собой. Кроме того, она была на 8 лет моложе супруга[40], а ее таланты и интересы вились в тех же областях литературы, искусства, театра и новомодных мистических учений. Влюбленные отправились в 1912 г. на лекции Штейнера в Гельсингфорс (совр. Хельсинки, в 1912 г. территория России)[41]. Эллис (Л. Л. Кобылинский) писал Андрею Белому, что кроме него самого этот цикл прослушали М. И. Сизова, В. М. Викентьев, К. П. Христофорова, М. И. Сизов, А. С. Петровский, Б. А. Леман[42]. Эти встречи со Штейнером были особенными: 11 апреля 1912 г. Доктор вместе с 17 русскими отмечал в Гельсингфорсе русскую Пасху и обратился к ним с речью[43]. М. В. Сабашникова вспоминала: «Никогда я еще не слышала, чтобы Штейнер говорил так задушевно, так лично. Как будто каждое слово, излучавшее бесконечную теплоту, он хотел погрузить в душу каждого»[44]. И вот там приключилась романтическая история, которая могла закончиться трагедией. Эллис, влюбленный в Сизову и свято хранивший тайну ее любви (к близкому другу ее брата Н. П. Киселеву[45]), был потрясен ее появлением «под руку (по-мещански)» с Викентьевым, который позволил «себе ограждать ее» от Эллиса. Когда Мария заявила последнему, что по-прежнему продолжает любить «того человека», а жениху ничего об этом не сказала, «разочарованию и отчаянию» Эллиса не было никаких границ, по его словам, «это был самый сильный удар в моей жизни». Видимо, горячий Эллис позволил себе наговорить такого, что Викентьев ответил ему несколькими письмами «в уличном стиле» и вызвал его на дуэль[46]. Эллис принял вызов, однако Т. Г. Трапезников смог их остановить, заметив, что «Р.К. не стреляются». Письмо М. В. Сабашниковой А. С. Петровскому от 18 мая 1912 г. с описанием этой истории, очень измучившей Викентьева, по мнению Д. Д. Лотаревой, дает свидетельство, что он входил в розенкрейцеровскую ложу[47](как и брат Марии, М. И. Сизов). Сохранилась пачка романтичных писем Марии Сизовой к супругу с трогательным изображением сидящего к нам спиной зайчика вместо подписи[48].
Они обвенчались 3 июня 1913 г. в Спасской на Песках, что в Каретном ряду церкви (Приложение. Документ 10). В Москве супруги поселились в квартире Сизовых: дом 6 по Большому Спасскому переулку (сейчас Большой Каретный пер.) «у церкви Спаса на Песках, что за Каретным рядом» – т. е. совсем близко от Музея изящных искусств. В 1910-е гг. прямо на квартире Сизовых в двух маленьких комнатках по инициативе Викентьева устраивались выставки «7», причем работы самого Викентьева и его жены вызывали наибольший интерес публики. Таких выставок было по крайней мере три[49]: с 28 по 30 декабря 1916 г. была устроена «Третья выставка „7“. Живопись. Графика»[50], которую посетили многие сотрудники Музея (в частности А. В. Назаревский, Т. Н. Бороздина, а А. А. Сидоров, был ее участником; см. портрет Викентьева из его архива – илл. 1).
В переписке Викентьева мелькают имена антропософов: Т. Г. Трапезникова, Л. Эллиса, А. С. Петровского, супругов Поццо[51], К. П. Христофоровой, Т. А. Бергенгрин (родственницы Сабашниковых). Очень вероятно, что именно в этой среде состоялось знакомство Викентьева с его будущим заместителем по МИКВ, В. И. Авдиевым, увлекавшимся поэзией[52], живописью[53] и новомодными оккультными учениями. Но у последнего были причины скрывать свою вероятную причастность к антропософам, ведь уже в 1923 г. общество не прошло регистрацию и его членами активно заинтересовалось ОГПУ при СНК СССР.

Рис. 3. В. И. Авдиев
Этот круг людей имел много общего с теми, кто был постоянными посетителями и даже насельниками знаменитой «Башни» Вяч. Иванова, его квартиры у Таврического сада в Санкт-Петербурге. Иногда это просто были одни и те же люди: например, Андрей Белый[54], А. Р. Минцлова, та же М. В. Сабашникова[55]. У нас нет свидетельств, что там хотя бы раз бывал и Викентьев, хотя кого там только не бывало по ивановским средам: «крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты» (до 70 человек!)[56]. Кстати, то, что происходило в этой, по выражению Н. Бердяева, «утонченной культурной лаборатории»[57], где идеалом считалось объединение философии, литературы, театра, музыки и изобразительного искусства, во многом напоминало мистерии Штейнера (был даже башенный театр с постановками В. Э. Мейерхольда). Неслучайно в письме к В. И. Авдиеву из Каира от 16.IV.24 сам Викентьев назовет свое «детище» – Музей-Институт Классического Востока, МИКВ – Восточной башней.[58]
В. С. Голенищев в письме 1925 г. из Каира к Вяч. Иванову предполагает его знакомство с Викентьевым (см. ниже)[59].
Переписка свидетельствует, что с 1910 г. В. М. Викентьев принимал деятельное участие в создании и работе Антропософического (Антропософского) общества, а также издании журнала «Вестник теософии». Сохранились интересные документы: билет В. Викентьева в Теософское общество Берлина от 15 ноября 1910 г. за подписью самого Штейнера; черновики писем к нему (с обращением «Hochgelehrter Lehrer und Führer») с просьбами об установлении более тесной «эзотерической» связи и советах; рукопись «Конституции русского Антропософического общества»; недатированное письмо Л. Эллиса, превозносящего учение Штейнера как последнюю надежду русской интеллигенции. Как уже говорилось, в январе 1912 г. в Москве возник кружок для изучения розенкрейцеровской философии (считали ли они его «ложей»?); поразительно, но даже Первая мировая война не положила конец его деятельности. Впрочем, в начале ХХ в. разных кружков было множество и можно было быть членом нескольких сразу. Викентьев полагал, что возглавить такой кружок должен «посвященный ученик Штейнера» (не себя ли он имел в виду?)[60]. В начале 1914 г. он вошел в Совет основанного в 1913 г. Антропософического общества, а уже весной 1915 г. после долгих мучительных раздумий покинул его, будучи недоволен отсутствием в нем «соборности»[61]. Одним из научных результатов увлечения Викентьева учением Р. Штейнера стала публикация «Собрание масонских предметов Российского Исторического музея», причем она напечатана сначала в 1917 г. в Отчетах музея (где тогда работал Викентьев), а потом отдельным оттиском в Синодальной типографии в 1918 г.[62], чему явно поспособствовал о. Павел Флоренский[63].
Однако все это случится позже, надо было еще получить высшее образование, а мы оставили нашего героя на перепутье между разными вузами в длительном заграничном путешествии в бурные годы Первой русской революции. К осени 1907 г. он определился, о чем свидетельствует запрос из Канцелярии ректора Московского Императорского Университета на предмет того, был ли Викентьеву выдан аттестат об окончании Коммерческого училища[64]. Примечательно, что к прошению на имя ректора о зачислении на Историко-филологический факультет университета (Приложение. Документ 6) Викентьев прилагает кроме 3 заверенных фотографий 9 документов (все с копией), среди которых: аттестат Московского Коммерческого Училища (Приложение. Документ 2), удостоверение от Московской 4-й гимназии о выдержании испытания по латинскому языку (Приложение. Документ 3), удостоверение от Исполнительного Комитета при Управлении Московского Учебного Округа о выдержании испытания по греческому языку (Приложение. Документ 4), метрическое свидетельство, свидетельство о явке к отбыванию воинской повинности[65], свидетельство Императорского Городского Старосты о звании (сословии) по происхождению; удостоверение Московской Казенной Палаты о выходе из купеческого сословия (прошение написано от имени «Бывшего Можайского Купеческого Сына»)[66], свидетельство о благонадежности от Московского Градоначальника[67], а также справку о плате в пользу Университета за 1-е полугодие (25 р.). 24 июля 1908 г. датирована резолюция на этом прошении: «Зачисляется студентом Историко-филологического факультета»[68]. В конце мая – начале июня 1908 г. Викентьеву пришлось пройти «испытания» – сдавать дополнительно латинский («3 балла») и древнегреческий («хорошо») языки «в объеме полного курса мужских гимназий ведомства Министерства Народного Просвещения»[69]. Странно, что он не поехал в Санкт-Петербургский университет, где стараниями Бориса Александровича Тураева велось преподавание египтологии[70]. Судьбоносным для Викентьева стал совет профессора Московского университета И. В. Цветаева, создававшего в то время Музей изящных искусств при Московском Императорском университете (ныне ГМИИ имени А. С. Пушкина)[71]. Он-то и порекомендовал молодому человеку обратиться к профессору Санкт-Петербургского Императорского университета Б. А. Тураеву, с которым сотрудничал при покупке для музея коллекции древнеегипетских памятников В. С. Голенищева[72]. Тураев посоветовал молодому человеку поучиться египтологии в Берлинском университете (сам основательно прошедший эту «стажировку» в 1893–1894 гг., Тураев направлял в Германию многих своих учеников, что качественно улучшало их профессиональную подготовку[73]).
8 июня 1910 г. Викентьев пишет Тураеву из Берлина:
Многоуважаемый Борис Александрович,
После довольно значительных затруднений, которые оказывала моему поступлению канцелярия Берлинского университета[74], я нахожусь <неразборчиво> и начал работать с проф. Эрманом и в Музее. Мы читаем тексты и проходим коптскую грамматику. Следуя вашим указаниям, я устроился очень хорошо у Frl. Muhs[75], которая исполнена самых лучших воспоминаний о том времени, когда Вы у неё жили студентом и останавливались проездом. Она передаёт Вам поклон. Берлин как город мне не нравится, страшная жара <…>[76].
Тем же числом датировано письмо к И. В. Цветаеву, где Викентьев чуть подробнее рассказывает о своих занятиях.
Многоуважаемый Иван Владимирович
Я имматрикулировался в Германском университете и теперь работаю у проф. Эрмана. Мы читаем под его руководством египетские тексты и проходим грамматику коптского языка. Наряду с этим я работаю еще в библиотеке Старого музея, которую так любезно предоставил для занятий проф. Эрман – ежедневно, от 10 до 3-х. Я в восторге от музея: он очень полон и прекрасно систематизирован. Тем что я поехал в Берлин к проф. Эрману, я обязан указаниям милейшего проф. Тураева, который искренно был ласков и внимателен ко мне, зная что послали меня к нему Вы, многоуважаемый Иван Владимирович. Позвольте же Вас за это сердечно поблагодарить и выразить надежду, что по возвращении в Москву, я окажусь Вам полезным при расстановке коллекций Голенищева и при тех работах, которые сопряжены с их хранением и изданием. В заключение, еще раз выражаю свою полную готовность служить Вам по мере сил в Берлине в случае если у Вас имеются тут какие-нибудь музейные дела.
Преданный Вам,
В. Викентьев[77].
В конце ответного письма Цветаев замечает: «Буду ждать Вас для нового Музея ко времени размещения коллекций Голенищева»[78]. Но в музее, по крайней мере, с мая 1912 г. работала ученица Б. А. Тураева Т. Н. Бороздина, а штат был настолько мал, что сейчас это трудно даже представить[79]. Вскоре жизнь столкнет этих людей в борьбе за право хранения голенищевской коллекции, и как ни странно, справедливость восторжествует и памятники не станут жертвой амбиций Викентьева, а останутся в родных стенах и более бережных женских руках.
Пока Викентьев еще набирается знаний и в декабре того же 1910 г. в другом письме (дата его стерлась) Тураеву он отмечает: «Я с великой благодарностью вспоминаю 2 месяца занятий у профессора Эрмана и еще раз пользуюсь случаем поблагодарить вас за то, что вы меня к нему направили»[80]. Октябрем 1910 г. датируется его билет в Теософское общество[81]. Почему он занимался в университете только 2 летних месяца?[82] Возможно, потому что отвлекся на лекции Р. Штейнера? По крайней мере, в архиве М. И. Сизовой (ГБЛ) хранятся ее записи лекций Штейнера в Германии. Похоже, такое совмещение было не один раз: с 25 по 31 августа 1912 г. в Мюнхене молодые супруги слушали курс лекций Р. Штейнера, а в 1913 г. Викентьев стажировался в Мюнхене у Фр. В. фон Биссинга, тоже непродолжительно (возможно, по рекомендации Фр. Баллода)[83]. Создается впечатление, что антропософия для него важнее египтологии.

Рис. 4. Т.Н. Бороздина, Б.А. Тураев, неустановленное лицо и В.М. Викентьев в Египетском зале ГМИИ
Дольше, чем где-либо, Викентьев учился на Историко-филологическом факультете Московского Императорского университета, куда поступил летом 1908 г. В 1913 г. на факультете насчитывалось 10 кафедр, преподавали 19 профессоров и 27 приват-доцентов, а студентов было 823. С 1908 г. деканом являлся историк М. К. Любавский, которого в 1911 сменил филолог-классик А. А. Грушка[84]. О учебе Викентьева, к сожалению, известно чрезвычайно мало, кроме того, что он избрал «учебный план романо-германского отделения (романской секции)», слушал курсы: богословия, логики, психологии, введения в философию, введения в языковедение, греческого автора, латинского автора, истории западноевропейских литератур, истории русской словесности, истории новой философии, введения в романо-германскую филологию, староиспанского языка, исторической грамматики 2-х романских языков, сравнительной грамматики индоевропейских языков, истории греческой и римской литератур, русской истории, всеобщей истории, немецкому, французскому и английскому, его знания по этим предметам были оценены как «весьма удовлетворительные» (исключения – древнегреческий и история русской словесности, где просто «удовлетворительно») (Приложение. Документы 8, 12). «И по сдаче коллоквиумов и выполнении всех условий, требуемых учебными планами и правилами о зачете полугодий, имеет восемь зачтенных полугодий, т. е. семестров. В личном деле имеется Прошение студента X семестра Викентьева на имя декана от 28 марта 1913 г. с просьбой о выдаче ему Выпускного Свидетельства, т. к. он намерен „держать в текущей сессии Государственные Экзамены“»[85]. К прошению приложены: 1) выпускное свидетельство, с копией, 2) две фотографические карточки, 3) свидетельство о благонадежности, 4) квитанция о взносе 20 рублей, 5) документ о звании, и сочинение[86].
В ходе «испытаний», т. е. экзаменов, среди которых были и письменные, и устные, его знания по всем этим предметам были оценены как «весьма удовлетворительные» (единственное исключение – древнегреческий, где просто «удовлетворительно») (Приложение. Документы 7–8).
Совершенно неожиданной оказалась тема этого кандидатского сочинения В. М. Викентьева «Древнеегипетская Повесть о двух братьях. Перевод с иератического факсимиле и комментарии», полученная от проф. М. Н. Розанова (Приложение. Документ 9). Матвей Никанорович Розанов (1858–1936), окончивший Историко-филологический факультет в 1883 г. со степенью кандидата и золотой медалью и слушавший в 1896–1898 гг. лекции в университетах Парижа, Гейдельберга и Страсбурга, в 1910 г. защитил докторскую и с июня 1911 г. стал экстраординарным профессором по кафедре истории западноевропейских литератур. Безусловно, он был специалистом высокого уровня, в 1921 г. был избран академиком, но сфера его научных интересов была далека от египтологии[87]. То есть, видимо, Викентьев работал над своим сочинением самостоятельно; он ничего не сообщает о том, кто его консультировал при написании столь специальной работы, особенно в вопросах перевода иератического текста! Вероятно, за эти годы – начиная с 1903-го – он большей частью сам освоил два вида древнеегипетского письма: иероглифическое и иератическое. Подобные случаи известны (например, практически сам выучил древнеегипетский первый отечественный египтолог Владимир Семенович Голенищев[88]), и, конечно, свидетельствуют о незаурядных способностях. Викентьев шлифовал свои знания иероглифики во время непродолжительной стажировки в Берлинском университете. Также, он, несомненно, учился в семинарии Б. А. Тураева, когда профессор приезжал в Москву в качестве хранителя голенищевской коллекции в Музее изящных искусств и для занятий со слушательницами Женских курсов, одной из которых и была Т. Н. Бороздина[89]. Английский справочник указывает, что Викентьев учил древнеегипетский у А. Эрмана и Б. А. Тураева; возможно, эти данные базируются на каких-то каирских архивных материалах[90]. А вот историю литературы в Московском университете преподавали хорошо (хотя, конечно, древнеегипетская литература в этот обзор вряд ли входила в сколько-нибудь серьезном и подробном виде, т. к. в конце XIX в. только начали появляться первые сборники переводов литературных текстов, а многие ныне знаменитые были еще только-только обнаружены, как, например, «Сказка о потерпевшем кораблекрушение», найденная В. С. Голенищевым в Эрмитаже «за конторкой»[91]. Так что студенческая работа была абсолютно пионерской во многих отношениях и раскрыла литературную одаренность Викентьева, а также истоки его первой серьезной публикации, осуществленной уже под руководством Б. А. Тураева (рис. 4). «Повесть о двух братьях» стала темой всей его научной жизни, объединив московский и каирский жребии. Он наконец-то нашел свое предназначение.
Университет Викентьев окончил с дипломом I степени за № 9835 от 17 марта 1915 г. (Приложение. Документ 12). Примечательно, что он решил поступать туда, когда сестра написала ему об устройстве кафедры египтологии (sic!) при университете. К сожалению, она не указывает источник своих сведений, но такой кафедры в университете никогда не было[92]. С 1915 по 1917 г. Франц Баллод (на латышский лад: Балодис Францис Александр; 1882–1947)[93] читал в университете спецкурсы: «Древнеегипетская литература», «Древнеегипетский язык», «Древнеегипетская культура и искусство»[94]. Есть сведения, что эти спецкурсы посещал В. И. Авдиев[95], мог ли что-то успеть Викентьев, диплом которого датирован 17 марта 1915 г.? Ранее, с 1912 по 1918 г. Баллод читал спецкурсы в Московском Археологическом институте – может, Викентьев посещал их? И не по совету ли Баллода он ездил в Мюнхен к фон Биссингу? Пока никаких архивных подтверждений этому не обнаружено.
С 1910 г. более или менее регулярно Викентьев консультировался у Б. А. Тураева[96], дававшего рекомендации по научной литературе и помогавшего что-то из нее достать, советы по переводам и т. д.
Так, в мае 1912 г. Б. А. Тураев пишет В. М. Викентьеву:
«Многоуважаемый Владимир Михайлович!
Ждал Вас в великий понедельник 1–2, как Вы писали, и не дождался; […] Простите, что теперь не сразу ответил Вам – масса дела. Вы меня спрашиваете о переводах Breasted’а[97] или Schneider’а[98]. Я вообще против переводов, которые завалили наш книжный рынок и не дают места оригинальным работам. Лучше попробовать дать что либо свое. В частности о Breasted. Что Вы думаете переводить – его или обработку Ранке[99]? Я уверен, что и то, и другое выйдет скоро новым изданием; уже может и то, и другое не мешает подновить. Что касается Шнейдера, то я вообще против перевода этой талантливой, но парадоксальной книги. Перевод одного Египта Шнейдера неудобен и потому, что этот том только начало целой системы его… Во всяком случае, если уже необходимо переводить, то конечно Breasted имеет преимущество. Но ведь его история – только вывод из его четырехтомного собрания текстов. Как с этим быть? Вообще этот вопрос требует обсуждения. – Еду сейчас в Москву и пробуду до четверга.
7. V. 12 Преданный Вам, Б. Тураев»[100].
Викентьев послушался профессора и взялся за перевод двухтомной «Истории Египта с древнейших времен до Персидского завоевания» Дж. Брэстеда, выходца из Берлинской школы египтологии и основателя американской. По этому поводу он немного переписывался с Брэстедом, письма которого сохранились[101]. Авторизованный перевод В. Викентьева опубликовало книгоиздательство «М. и С. Сабашниковых» в 1915 г. с предисловием автора к русскому изданию, 200 иллюстрациями и картами, а также с посвящением В. Голенищеву, сделанному именно так, как просил Брэстед – «на отдельной странице после титульного листа», причем американский ученый сначала оперативно попросил на это разрешения у «Нестора египтологии в России».
В 1911 г. Викентьев предложил издательству «Мусагет», где у него было много знакомых по антропософским кругам, собрание древнеегипетских сказок[102], но это издание не состоялось. Не было ли это предложение рождено идеями Тураева о необходимости популяризировать древневосточные литературные тексты? По этому поводу он писал В. С. Голенищеву 1 декабря 1912 г.: «…Мне пришла в голову мысль дать русской публике, в настоящее время увлекающейся Востоком, серию книжек-переводов лучших произведений египетской и вавилонской литературы, с введением, комментарием и хорошими иллюстрациями. Это будет нечто вроде „Der Alte Orient“ [„Древний Восток“, немецкое научно-популярное издание. – О. Т.] по Египту, так как будет состоять не из компиляций или сводов, а из источников. В первую очередь наметил Синуху[103] и Гильгамеша (для Вавилона у меня есть сотрудник[104]), потом Орбиньи и законы Хамураби и т. п. Может быть и Вы, Владимир Семенович, найдете когда-нибудь возможность дать нам „Шиффбрюхигера“ или „Унуамона“ или их обоих?[105]…»



