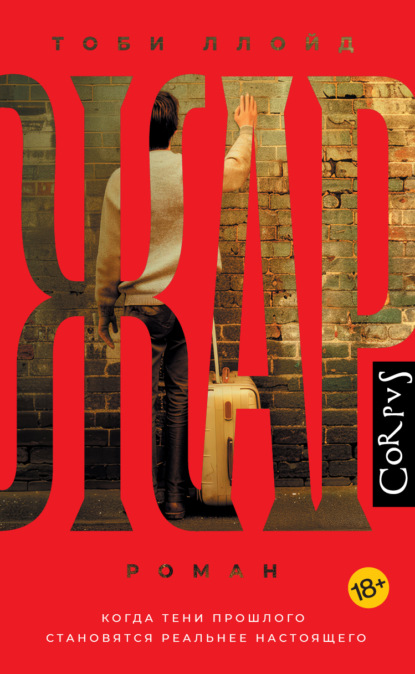
Полная версия:
Жар
–Чему учит нас эта история?– спросил Шульц.– Что она говорит нам? Что для цадика нет различия между прошлым и настоящим, что, если смотреть глазами Бога, вспомнишь будущее, и прошлое развернется перед тобою? Тогда почему нельзя было это остановить? Бог ведь знал, что будет. Значит, Бог попустил, чтобы это случилось. Что делать с подобной мыслью? Как нам и дальше жить евреями, зажигать шабатние свечи, отделять милхедиг от фляйшедиг[10], обрезать наших сыновей?
Пала ночь. Древнее лицо Шульца в дымном свете отливало бронзой. Я огляделась, надеясь, если честно, увидеть других неверующих, пришедших на лекцию, а не на ужин. Мне казалось, присутствие одного-двух единомышленников уймет мое растущее беспокойство.
– Но и противоположная позиция не менее убедительна. Существуют письменные свидетельства, что даже в лагерях были те, кто постились в Йом-Кипур, мужчины и женщины, изнывающие под бременем голода, отказывались от миски супа ради соблюдения духовных обетов, хотя прекрасно осознавали, что это решение на день приблизит их к смерти. И кто мы такие, чтобы отворачиваться от Бога, если даже эти живые мощи не утратили веру?
И здесь мы подошли к парадоксу. Жить как еврей невозможно, и жить не как еврей в равной степени невозможно. Оба пути возмутительны, оба оскорбляют мертвых. Но сегодня мы с вами поговорим о том, возможно ли разумно рассуждать о Холокосте. Некоторые мыслители утверждают, причем весьма убедительно, что это невозможно…
– И мыслительницы, – вставила моя соседка, и на нее громко шикнули.
–Теодор Адорно писал, что после Аушвица не может быть поэзии. На земле творился ад, теперь что-то должно уйти. Никаких больше сонетов, никаких баллад, никаких од, даже элегий мертвым, лежащим в могилах. И правильно, скажем мы, и справедливо. Но факт остается фактом: за последние полвека написали немало отличных и даже гениальных стихотворений. В одной только английской поэзии был Тед Хьюз с его неординарным мифическим воображением, были яростные песни Джона Берримена, была умная и проницательная Элизабет Бишоп. Быть может, Адорно попросту ошибался?
Шульц примолк, обвел взглядом слушателей, давая понять, что вопрос не совсем риторический.
–Я скажу больше. Гениальный поэт и химик Примо Леви в сорок пятом году вышел из лагеря и написал сотни страниц о том, что там творилось,– о живых трупах, о конвейерах убийств. И даже он утверждает, что выжившие – не истинные очевидцы, по-настоящему ужас происходившего постигли те, кто покинули лагерь через трубы, те, кто чернили воздух и усеивали землю своим пеплом. Утопленные, уморенные голодом, удушенные, раздавленные. Молчание – вот единственный достоверный рассказ, заявляет Леви. Еще один парадокс! Леви всю жизнь был атеистом, но явно обладал склонностью к талмудическим хитросплетениям.
Шульц впервые улыбнулся.
– И что тогда я здесь делаю, спросите вы меня. Я пришел молчать или говорить? Если молчать, то зачем тогда я пришел? Но если я намерен говорить, что могу я сказать вам такого, чего не сказал Примо Леви, я, которого там не было?
В комнате было душно от многолюдья и жара свечей, по шее моей тек пот. Голос Шульца с легким акцентом, пришедшим из идиша, его родного языка, был звучен и чист. Он говорил без бумажки, устремив взгляд на стену за моею спиной, порой медленно опускал утомленные глаза, но тут же вновь поднимал. В зале ерзали, скрипя стульями. Шульц развивал свою главную тему, то, что он назвал «невозможностью свидетельства», рассуждал о тщетности и одновременно необходимости памяти и наконец подобрался к головокружительной кульминации.
–Память – последняя наша защита перед лицом зла. Оруэлл это знал. Окончательная победа Большого Брата заключается не в уничтожении человеческой сексуальности, а в отмене прошлого. В эти дыры памяти утекает сама история. Это знал и Шекспир. Что говорит Призрак Гамлету на прощанье? Он только что открыл сыну, что трон узурпировал безжалостный братоубийца, опасный авантюрист. Пожалуй, своего рода Гитлер шестнадцатого столетия. И все же последние слова Призрака обманывают ожидания: он не просит ни отомстить, ни убить узурпатора и восстановить справедливый порядок. Нет, просьба его куда скромнее и трогательнее: «Помни обо мне». Вот что сказал Призрак: «Помни обо мне», – и канул в безвременный сумрак смерти[11]. Помни обо мне. Помни. Мы обязаны помнить. Другого оружия у нас нет.
Я слушала как зачарованная. Меня не смущало ни то, что сидевшая рядом со мною женщина то и дело цокала языком, ни то, что нетерпеливые собравшиеся ерзали на скрипучих стульях. Эта пылкая речь отличалась от всего, что я слышала в университетских лекториях. Шульц не задавался вопросами, чтó понимать под литературой и совпадает ли подлинный смысл произведения с тем, что вложил в него автор. Вместо этого он произнес ни много ни мало проповедь, дабы в премудрости мертвых отыскать способ противодействовать злу. Мне показалось, это именно так.
Однако восторг мой омрачало смущение. Я пришла в одиночку и была здесь незваной гостьей. Я не знала иврита, а о еврейских верованиях и традициях имела лишь поверхностное представление. Бабка моя вынужденно скрывала от всех, кто она такая на самом деле. Но какой неизвестной ценой она из Кон сделалась Дюпон?
У нашего рассказчика, безусловно, была собственная история бегства из Европы. Шульц был единственным сыном, в 1939 году родители отправили его прочь из тогдашней Чехословакии. После войны он один-единственный раз вернулся в страну, где родился, ему тогда было шестнадцать. Уезжал он десятилетним и теперь узнал, что его бывшие одноклассники все до единого мертвы или пропали без вести. Целая параллель еврейских мальчишек оказалась убита Гитлером. Их бледные лица сохранились лишь на памятной фотографии: школьный класс призраков, расставленных в два ряда, повыше ростом стоят, пониже сидят перед ними. Посередине учитель, усатый, в пенсне, весь достоинство – и беспомощность.
Под конец вечера Шульц поделился советом, который семьдесят с лишним лет назад получил от родной бабки и которому Шульц, по его мнению, был обязан и своим спасением, и долгой жизнью. «Если ты еврей, – сказала ему старуха, – и у тебя есть мозги, ты будешь делать две вещи. Учить языки и собирать паспорта».
Эту фразу встретили одобрительным бормотанием. Шульц заверил, что бабкина мудрость, насущная в тридцатые годы, актуальна и по сей день.
–В конце концов, жизнь по-прежнему жизнь. И люди, боюсь, по-прежнему всего лишь люди. Говоря языком теологии, Машиах еще не пришел.
Это утверждение, высказанное вполне серьезно, публика встретила доброжелательным смехом. И только тогда я заметила в дальнем конце комнаты Товию, он раскачивался на стуле и даже не улыбнулся. Справа от него сидел пожилой господин; некогда его лицо, судя по волевому подбородку, было красивым. Мне показалось, он чем-то похож на Товию: у обоих нос с горбинкой. Старик, не смущаясь условностями, отступил от стиля одежды, принятого у ортодоксов: на нем был широкий белый кафтан, на плечах – сине-белое покрывало с бахромой по краям[12]. Приглядевшись, я обнаружила в его наряде изъян: с одного краю он был разорван. Старик подался к выступающему, опершись для поддержки на Товию. Тот в ответ со стуком опустил передние ножки стула на пол.
Я потеряла нить того, о чем говорил Шульц, а он уже заканчивал. Завершил выступление он извинением. Боюсь, я не сумел выразить то, ради чего пришел, сказал Шульц, надеюсь, оно все равно этого стоило.
–Одна последняя мысль – и я вас оставлю,– произнес он.– Идея, пожалуй что, бесполезная, просто пришла мне в голову. Но попробовать, может, надо. Я прошу вас найти десять имен, всего десять из шести миллионов. Списки можно взять где угодно. И если каждый из нас, присутствующих здесь, запомнит десять имен, это будет уже что-то. Немного, но что-то. Время от времени повторяйте в уме эти имена, размышляйте о том, что стало с ними, с людьми, чьи имена украли, заменили номерами, выколотыми на руках. Тем именам суждено было кануть в небытие и навсегда стереться из памяти. Но мы должны постараться запомнить. Что ответил Гамлет на наказ призрака своего отца? «Помнить о тебе? Да, бедный дух, пока гнездится память в несчастном этом шаре»[13]. Давайте же помнить вечно, пока память гнездится в нас. Шабат шалом.
Последовало короткое ошарашенное молчание, затем грянули аплодисменты и на помощь к Шульцу рванулся раввин. Едва Шульца усадили, он склонился к синагогальному ковчегу[14] и опустил голову.
Раввин поблагодарил нас за то, что пришли, предложил остаться и выпить. Мне не терпелось уйти; я заметила, что Товия пробирается к двери. Меня удивило, что он уходит без старика, сидевшего рядом с ним, но, всмотревшись, я не увидела в комнате никого, кто был бы в белых одеждах.
Глава пятая
Прихожане курили на улице у дверей, одни наряженные в соответствии с традицией, другие в повседневной одежде. Когда я проходила мимо, они что-то пробормотали. Женщина, на выступлении Шульца сидевшая рядом со мной, сейчас шагала следом.
–Они просто желают вам гут шабес. То есть, можно сказать, счастливой пятницы.
Я поблагодарила, женщина ответила: надеюсь, еще увидимся. Привратник, завидев меня, приветственно коснулся шляпы и воскликнул: «В каком-то смысле!»
Я направилась было прочь, но вдруг за шумом машин услышала доносившиеся с противоположной стороны улицы крики. Я повернула голову и увидела группу парней у выхода из «Везерспунз»[15], все в кислотно-желтых цветах «Оксфорд юнайтед»[16] и без свитеров, невзирая на холод.
– Эй, жиды, – кричали парни, – гребаные жиды!
Один даже ринулся вперед и швырнул в мою сторону то, что держал в руке: пластиковый стаканчик, крутясь, пронесся по воздуху, ветер отбросил его ко мне, и когда стаканчик падал на землю, я почувствовала на шее холодные брызги. Я вытерлась рукавом и увидела, что через дорогу, лавируя в потоке машин, несется какой-то парень.
Он остановился в шаге от меня, согнулся, чтобы отдышаться, и произнес:
– Извини, лапуля.
Извини?
– Тебе, наверное, противно на нас смотреть. Сегодня три – ноль, вот пацаны и расстроились. Наверное, мы выпили лишку. В общем, он не хотел в тебя попасть.
– Но попал.
– Я поэтому и извиняюсь! Чего ты так испугалась? Я же с тобой вежливо разговариваю.
Он был примерно моих лет, может, постарше, хотя едва ли из университета. Идеально очерченные брови, в ухе золотой гвоздик. Парень предложил мне выпить.
– Будьте любезны, оставьте меня в покое, – отрезала я.
–Да что я сделал-то?
Я кивнула на его дружков, те по-прежнему выкрикивали оскорбления.
– Не-а, лапуля, не-а. Ты все неправильно поняла. Они кричат не тебе. – Он указал на толпу у выхода из синагоги, шагах в двадцати от нас. – Нас бесят вот эти.
– Но я одна из них, – сказала я.
Парень скрестил руки на груди. Потом почесал голову. И наконец рассмеялся.
–А я ведь чуть не купился, лапуля! Ну ладно, мисс Гольдберг, не хотите ли что-нибудь съесть?
Я отказалась, направилась прочь, но он увязался за мной и то извинялся, то хохотал.
–Точно не хочешь чего-нибудь пожевать? А выпить? Потом будешь внукам рассказывать.
Я точно не хотела ни того, ни другого, и на углу он отстал.
– Спокойной ночи, мисс Гольдберг!
Вскоре я заметила Товию: он возвращался в колледж. Я бегом догнала его и хлопнула по плечу, чтобы он остановился.
– То есть ты не осталась потусоваться с хасидами? – спросил он.
Значит, он меня видел. Не поэтому ли так торопился уйти? Меня подмывало рассказать ему о случившемся у синагоги, но я удержалась: вдруг Товия поймет неправильно – решит, что я хвастаюсь. И вместо этого я спросила, как меня тот болельщик «Юнайтед», не хочет ли Товия выпить.
– Тут рядом «Кингз армз».
Я сказала это для проформы, уверенная, что он откажется. Но Товия, подумав, кивнул.
В пабе была толчея, но мы захватили столик по соседству с парнями в смокингах, один из них под одобрительные крики друзей выдул бокал пива единым глотком. Товия вскинул брови, а я принесла нам пинту эля и водку с колой.
До сих пор мы разговаривали разве что вскользь – стоя на пороге своих комнат, прежде чем вернуться к учебе, дожидаясь на нашей общей кухне, пока закипит чайник. И разговоры эти оказывались краткими и спонтанными. Сейчас все было иначе. Вечер пятницы, не поздно. Были способы скоротать его и приятнее, чем сидеть в пабе с Товией Розенталем.
И все же, по крайней мере, нам было о чем поболтать.
– Классная лекция, правда?
–Разве?– Товия жадно отхлебнул пива.– Не могу сказать, что мне от нее была какая-то польза.
Я изумилась. Я-то думала, лекция невольно затронула за живое всех присутствовавших в той комнате, тем более если ты религиозный еврей. Даже, пожалуй, вдохновила. То, как Шульц сплетал историю с литературой, смешивал критику и верования, апеллировал к гуманитарным наукам как к мощному средству защиты от бесчеловечных режимов.
Стараясь не раздражаться из-за безучастного вида Товии, я спросила, что же ему не понравилось.
– Да чушь все это. Нет, излагает он складно, красивые фразочки, но толку чуть. Выучите наизусть десять имен и шепчите себе перед сном. Херня полная.
– По-моему, ты немного несправедлив.
– То есть ты и впрямь намерена это делать? Заучивать имена?
Интересно, удастся ли отыскать список виленских Конов.
– Возможно, – ответила я.
–Да не будешь ты это делать.– Товия отмахнулся от насекомого.– Если бы эти имена для тебя действительно что-то значили, ты бы уже их знала. А Шульц так это представляет, будто стишки, какие-то строчки Шекспира способны противостоять пушкам и бомбам. Бред, просто бред.
Так он вел себя на коллоквиумах: обрушивал на собеседников язвительные тирады, мне об этом часто рассказывали, но своими ушами я это услышала впервые.
Я заикнулась было о власти символов, но Товия перебил:
– Беда Эли Шульца в том, что он скептик, который хочет верить. Он романтизирует религию. Сама слышала, как он рассуждал о посте в Йом-Кипур. С каким благоговением. А ему не приходило в голову, что дело не в гордости, не в набожности, а в отчаянии? У этих несчастных отняли последнюю надежду, вот они и спасались как умели – и чем, древним обрядом? Дешевым фокусом? Единственное, чем они могли умилостивить своего чудовищного Бога, – это поститься, ничего другого они не придумали.
Вот почему у Товии не было друзей на курсе, вот почему Джен, Кэрри и другие его презирали. А вовсе не потому, что его мать – сионистка, и даже не потому, что вся их семья – религиозные фундаменталисты. Общение с однокашниками должно быть приятной противоположностью коллоквиумам и семинарам: выпивка, тупые шутки, сплетни и флирт. А с Товией ты что в пабе, что на коллоквиуме. Кому это надо?
Видимо, только мне. Я впервые столкнулась с воинственным высокомерием Товии, но меня это не оттолкнуло. Мне даже впервые с момента знакомства захотелось завоевать его уважение. Он, оказывается, вовсе не робкий юноша, как я полагала. В Товии, несмотря на всю его странность, чувствовалась своего рода притягательность. Неужели другие не замечают его магнетизма?
– «Помните, помните, мы должны помнить вечно»! – продолжал Товия. – Терпеть не могу этой фальшивой духовности. Нельзя безнаказанно ворошить прошлое, за все приходится платить.
– В каком смысле платить?
– Мой дед был человеком очень религиозным. Он пережил Холокост. И в детстве он говорил мне страшные вещи, просто чтобы я не забывался.
– Например?
Товия покачал головой.
– Мало выпили.
Мало выпили? То есть после синагоги он решил надраться?
– И Шульц напомнил тебе деда?
– Нет, они совсем не похожи. Господи, да Эли Шульц еще душка. А зейде нам говорил: те, кто в лагере утратили веру, никогда и не знали Торы. Все, что Гитлер сделал с евреями, написано давным-давно. И дед был прав! Знаешь, что в книге Левит Бог говорит израильтянам? Он говорит: не будете жить по закону, отдам вас в руки врагов, и земля разверзнется у вас под ногами. А если вы и тогда уцелеете, сама земля обернется против вас и посевы ваши падут. И перед смертью матери от голода будут пожирать плоть дочерей, а отцы – сыновей. Мы будем резать своих детей – куда там Аврааму! – и жарить их на кострах. Вот что Бог сулил нашим предкам, и этот посул мы повторяем из года в год, начиная с Синая.
Товия почесал пятнышко на шее.
–Дед мой был не очень-то образованным. Учиться он бросил в четырнадцать лет, писал с нелепыми ошибками. Но башка у него варила. И о Боге он знал побольше, чем Эли, мать его, Шульц. Дедов Бог породил Гитлера, Геринга, Геббельса и пропустил мимо ушей плач Аушвица.
Я заметила, что остальные посетители паба слушают нашу беседу и, стоит мне повернуться, отводят глаза. «Неужели они разглагольствуют о Холокосте? И это в пятницу вечером…»
– Но ты же вряд ли веришь в такого Бога, – предположила я.
– Я? – Товия выпрямился на табурете. – Ты спрашиваешь меня? – Он насмешливо скривился и заговорщически подался ко мне. – Я вообще ни во что не верю.
Если подумать, я никогда не слышала, чтобы Товия рассуждал о своих религиозных взглядах. Но убеждения его матери были известны всем: об этом можно было каждую неделю прочесть в газетах. И разве в начале семестра он не потянулся к отсутствующей мезузе?
Товия отхлебнул пива. За двадцать минут он где-то в три глотка осушил две трети стакана. Прикончив остатки, он направился к барной стойке за добавкой. Вернулся, поставил передо мной водку с колой, хотя я и первую-то осилила только наполовину.
Одна мысль не давала мне покоя.
– Тогда что ты сегодня там делал? – спросила я.
– Я там был по привычке.
Объяснение неубедительное, и Товия пожал плечами. Спросил, почему я пошла туда, и я ответила, что мне интересен Шульц. И, если уж на то пошло, я еврейка. В каком-то смысле.
– Правда? – Он вгляделся в меня, словно сопоставляя это открытие с моими чертами лица. – Но не соблюдающая. Верно?
– Только по отцу, мою мать растили в католической традиции. Да и все равно они оба атеисты.
–Атеисты? Везет. И еще не по матери. То, что нацисты назвали бы Mischling. Полукровка.
Трудно сказать, оскорбилась ли я. Но мне определенно не понравилось, что на меня наклеили нацистский ярлык, и я сообщила об этом Товии.
–Расслабься, я не сказал ничего обидного. Пруст тоже был бы Mischling. Если б дожил.
– Я не читала Пруста, – равнодушно призналась я.
– Как у тебя с французским? Если справишься с двуязычным словарем, имеет смысл продраться через текст. Если нет, читай переводы Монкриффа.
Товия провел ладонью над пламенем свечи, оно задрожало, но выпрямилось. Товия убрал руку, взял стакан.
– Спасибо, но мне вполне достаточно обязательной литературы из списка.
– Да ладно. Наверняка тебе свойственна любознательность.
– С чего ты взял?
–Человек ты вроде бы интересный. Сидишь, слушаешь, впитываешь, толком не говоришь. В столовой, во дворе. Вот и сегодня пришла не почему-нибудь, а потому что тебе свойственна любознательность.– Когда он во второй раз употребил это выражение, я отметила, что Товия произносит его как-то странно, вместо «любознательность» получается «либознательность». – И ты не вписываешься в компанию – я о тех, с кем ты тусуешься, о Джене Стоквелле и этой кучке дебилов.
– Не говори так. Они мои друзья.
–Они обо мне отзываются не очень-то вежливо, – возразил Товия. – Моя мать надавила на рычаги и прочее. Я думал, ты не такая, как они.
– Ты ничего обо мне не знаешь.
– Мне просто так показалось, – пояснил Товия.
Он по-прежнему играл со свечкой. Ветерок от его очередного стремительного жеста потушил пламя. Над угасшим фитилем тонкой струйкой вился белый дымок.
– А ты очень доволен собой, – заметила я.
– Нет, я бы так не сказал.
У Товии была странная манера качать головой. Будто двигался один подбородок.
Заиграла песня, я узнала ее, но названия не вспомнила; отвечавший за музыку, кто бы он ни был, прибавил звук. Я вспомнила последний школьный год, как по вечерам торчала у входа в клубы, там, где обычно все курят, но сама не курила, только смотрела, как парочки обнимаются под фонарями. А ведь в эту самую минуту Джен, Кэрри и Руби заказывают такси на Парк-Энд, подумала я и поймала себя на том, что совершенно не хочу к ним присоединиться. За последнюю пару недель в какой-то момент пятничные тусовки превратились для меня в утомительный ритуал, и я уже не могла обманывать себя, будто мне нравится пить стопку за стопкой или в полумраке строить глазки незнакомцам. Прежде я верила, что благополучно преодолела школьные разочарования и нашла свое место здесь. Но то ли лекция Шульца, то ли водка, горячившая мою кровь, то ли уверенный взгляд Товии заставили меня усомниться в этом. Нравятся ли мне эти новые друзья? Товия резок и груб, но он по крайней мере не ожидает, что ты будешь притворяться кем-то другим. Его прямота побуждала к ответной искренности.
– Ты ведь обычно не ходишь в такие места, – сказала я. – Ты не тусовщик.
– Нет. – Его подбородок качнулся из стороны в сторону. – Но я и не обязан им быть.
Песня закончилась, ее сменила другая, громкая и незнакомая.
Я понятия не имела, о чем думает Товия; он сидел, понурив плечи. Но, кажется, именно тогда я догадалась, что он, возможно, таит в душе сильную боль. Путь, приведший его сюда, вряд ли был легок, и на каком-то его этапе, должно быть, случилось непоправимое. Я вспомнила, что знала о его сестре, и подумала о той девушке, чье лицо, полускрытое капюшоном, я увидела в день прибытия в университет.
– Похоже, твой дед был человек волевой, – сказала я, чтобы оживить разговор.
– Полная фигня, – не моргнув глазом, ответил Товия. – Да-да, я все понимаю. Но тут вот ведь какая штука. Когда я был маленький, мои родители были вечно заняты, и даже когда мать нигде не работала, она все равно была занята, а дед всегда сидел дома. Кстати, его боялся не только я. Мы нанимали женщин убирать его комнату, так он их всех распугал.
– Ну еще бы, он навидался такого…
Товия отклонился назад, хлопнул в ладоши.
– Я смотрю, тебя ни хрена не смущает, что ты говоришь очевидные вещи.
Тут нас прервали. Сидевший за соседним столиком удерживал в растопыренных пальцах четыре бокала пива, один выскользнул и разбился. Темная жидкость хлынула на пол, я положила на колени свою сумку, чтобы та не намокла. Соседний столик зашелся от смеха.
Товия прошептал мне на ухо:
–Здесь становится как-то противно.
Я согласилась с ним. Он предложил продолжить разговор в колледже за стаканчиком виски. Неужели заигрывает со мной? Да нет, решила я: он весь вечер держался то безразлично, то враждебно, то надменно.
По дороге я закурила, Товия попросил поменяться с ним местами – ветер относит дым ему в лицо, а он терпеть не может запаха табака. Я извинилась и затушила сигарету. Позже, когда мы проходили мимо старинных колледжей – темные окна распахнуты настежь, свет льется снизу на бледные стены, – Товия разоткровенничался.
Детство его было своеобразным. Родители его понимали Тору буквально, верили в его истинность, но традиции соблюдали постольку-поскольку. Какие-то чтили, дабы подтвердить взаимосвязь с Богом, про какие-то говорили пренебрежительно: это-де обывательские суеверия. То есть, с одной стороны, свинина, моллюски и ракообразные были запрещены, как и прочие виды трефного. Ежедневные молитвы считались обязательными, как и сложные ритуалы великих праздников – маца на Песах, трапезы на открытом воздухе в неделю Суккот[17]. С другой стороны, после смерти Йосефа Розенталя пятничные богослужения Эрик и Ханна посещали нерегулярно. Они гордились своими профессиональными и общественными достижениями и порой работали даже в шабат, если так было нужно для карьеры. Бог поймет, поясняла мать Товии. Современному еврею живется трудно.
Короче говоря, продолжал Товия, родители отличались спесью и лицемерием, и хотя беспочвенные верования порой пересиливают рациональное мышление, суетное честолюбие, как правило, пересиливало беспочвенные верования. Ни одного из детей не отдали в еврейскую школу и даже в школу, где учились главным образом евреи. Младшие Розентали посещали те школы, рейтинг которых был выше (разумеется, в пределах родительского бюджета). При этом все они с четырех лет учили иврит, Тору и Талмуд.
Товия же всегда был стихийным атеистом.
– Ты вдруг обнаруживаешь, что живешь на непонятной каменной глыбе, которая с дикой скоростью несется через космическое пространство. Вокруг тебя простирается пустота. Это знает даже ребенок. Подними глаза – вот она.
Разумеется, от родителей, прививавших Товии веру, он свои взгляды таил. До семнадцати лет. Однажды Товия решился заявить: «Мам, пап, я должен вам кое-что сказать». Потом были частые ссоры, упорный эмоциональный шантаж. Его лишили карманных денег. Отобрали кое-какие личные вещи («Мои книги!»). Товия тогда готовился поступать в университет – на литературоведа, не на историка. В Оксфорд его не взяли, и Товия решил попытаться на будущий год. Как бы сильно ему ни хотелось покинуть родительский дом, смириться с неудачей он тоже не мог. Я мечтал об университете и ни о чем больше, пояснил мне Товия.



