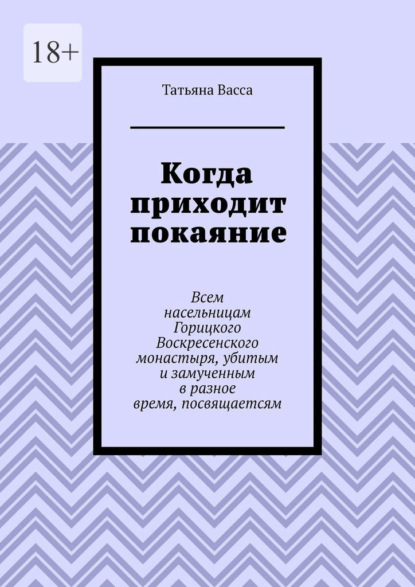
Полная версия:
Когда приходит покаяние. Всем насельницам Горицкого Воскресенского монастыря, убитым и замученным в разное время, посвящается
– Знаем мы жизнь, знаем… Это на словах все-то молодцы, а как молодая жена каблучком поведёт, так всё тут и забудется, – сетовал купец Обряднов своему товарищу.
– Это оно, конечно, – поддакивал ему товарищ, потянув с тарелочки масляную селёдочку с колечком лука, чтобы закусить рюмку холодной водки, которую с радостью опрокидывал на дармовщинку в кабаке, куда купец Обряднов пригласил его отобедать.
– Хороша селёдочка? – осведомился у своего собеседника купец, с удовольствием наблюдая, как виртуозно закусывается выпивка, да, собственно говоря, оная и выпивается
– Хороша! Ах, хороша! – поддакивал и тут товарищ, тянувшийся и за вторым селёдочным кусочком.
– От Молотилова поставляется, у него всё всегда высшего качества, – с нехорошей обидой произнёс купец Обряднов, да так выразительно, что у товарища кусочек нежнейшей селёдки чуть не застрял в горле.
– Ай, да и не очень хорошая, – сразу переменился товарищ и сплюнул на пол кусок, которым чуть было не подавился.
– Ты чего плюёшь?! Чего плюёшь?! Такую селёдку плюёт! Не умеешь угождать, скотина! – и при этих словах купец Обряднов с размаху заехал своему товарищу в ухо, вложив туда всю тревогу и беспокойство за свадьбу своего приказчика.
– Я успокоить хочу, а ты в драку! – и товарищ, ничуть не медля, ответил с левой руки тоже в ухо купцу Обряднову.
Через двадцать минут выдворенные из кабака с разбитыми носами купец Обряднов и его товарищ сидели на берегу речки, которая протекала невдалеке от места событий, смывали кровь с лиц и одежды, мирно и удовлетворённо переговариваясь.
– Ну что, успокоился, что ли? – спрашивал товарищ у купца, помогая ему смывать кровь с косоворотки.
– Успокоился. Ну и дурень я! Разве не дурень?
– Дурень и есть! – охотно согласился товарищ. Да, видно, согласился слишком уж охотно, потому что немедленно получил уже знакомый удар в ухо.
– Не успокоился?! Я тя щас успокою!
Драку разняли только через полчаса какие-то мужики, которые спустились к реке за водой для лошадей. Но зато уже на следующий день действительно спокойный и мирный купец Обряднов приказал вызвать к себе приказчика и со всей щедрости благословил его к свадьбе ста рублями серебром.
– Бери, бери! Не кто-нибудь женится, а лучший приказчик купца Обряднова, не последнего купца, скажу я тебе! И не какую-нибудь берёт, а купеческую дочь.
– Премного благодарствую, – с поклоном, в котором было видно достоинство и уважение к своему благодетелю, отвечал Фёдор, незаметно рассматривая свежие синяки на широком купеческом лице.
– Да вчера погорячился чуток, – заметил купец не очень деликатные взгляды Фёдора.
– Оно бывает-с, – также с достоинством заметил Фёдор.
– Бывает-с, ещё как бывает-с, – раздумчиво сказал Обряднов. – Ну, ладно, иди уж к своей любезной. Даю тебе выходной. Мишке скажешь, чтобы подменил.
– Как изволите-с, как изволите-с, – радостно ответил приказчик и мгновенно исчез за дверями.
– Ишь, пулей полетел… – улыбнулся было купец, но, случайно задев себя обшлагом халата за нос, болезненно поморщился и вздохнул.
Тем временем купчиха Куприянова принимала самое горячее участие в устроении свадьбы, невольно добавляя только лишних хлопот и неразберихи. То ей казалось, что экипаж молодых нужно непременно украсить белыми розами, то, что свадебный стол нужно непременно накрыть скатертью с золотым узором.
– Да откуда я белых роз столько возьму? Ведь не сезон! – отбивался от очередного предложения купчихи Пал Петрович.
– Да из ткани! Из ткани сейчас такие делают цветы, ничуть от живых не отличишь!
– Помилуйте, Катерина Петровна, чтобы я украшал искусственными цветами свадьбу родной дочери? Где Ваш вкус, скажите мне?!
– Не горячись, голубчик, не горячись! Никакого в том позора нет. И потом можно их куда-нибудь использовать. Ведь экономия.
– Экономия?! Да мы сейчас рассоримся, ей-богу рассоримся, – горячился Пал Петрович.
Но тут в комнату вошла его супруга, собственноручно неся на жостовском подносе чай с липовым мёдом, и, подавая его, неслышно, с мягкой улыбкой проворковала:
– Да, полно вам, голубчики мои. Оно не стоит ссоры, не стоит никак.
– О, привидение моё любимое! – расплылся в ответной улыбке Пал Петрович, осторожно принимая из рук жены горячую чашку на блюдце.
– Ангел она у тебя, а не привидение, – умилившись, заметила Катерина Петровна, косясь на липовый мёд в хрустальном сосуде, по краям отделанном серебром тонкого узора.
– И какая у тебя посуда. Всегда загляденье! – снова сказала Куприянова, зачерпывая серебряной ложечкой из хрусталя.
Настасья Николаевна приятно зарумянилась и неслышно исчезла из комнаты, будто и не было здесь её вовсе.
– А по краям у экипажа пустить белые шелковые ленты, – купчиха запила своё очередное предложение громким звуков втянутого с блюдца горячего чая и снова, как ни в чём не бывало, потянулась ложкой к янтарному липовому мёду.
– Ну, не начинайте, Катерина Петровна, а то снова рассоримся!
– Да, ладно уж, не буду более. Ради твоего мёда не буду…
6.
Свадьба началась обыкновенно, как проходят свадьбы в маленьких городках отдалённых губерний. У церкви собралась толпа любопытных, нищие толкались на паперти, стараясь вперёд вытянуть свои шапки и жестяные банки, дабы уловить щедрое подаяние. Экипажи теснились настолько, что возницы едва сдерживали лошадей. Экипаж молодых всё-таки был украшен белыми атласными лентами. Видно, Пал Петрович так и не сумел совсем отбиться от напора свадебных прожектов Катерины Петровны.
Свадебный стол накрыли в просторной гостиной особняка купца Молотилова по всем правилам. Тут была и копчёная осетрина, и малосольная форель, и филе сёмги, и жареные поросята, и холодцы трёх видов и огромные отбивные из телятины и свинины, соленья всех видов, да всего не перечесть. Мёдовуха, домашнее пиво, вина, водка были представлены наилучшего качества и в большом обилии. О столовых приборах и говорить нечего. Красивая посуда была одной из малочисленных слабостей купца Молотилова. Хрусталь, серебро, тончайший фарфор – всё это вмещало в себя ароматы и вкус – потрясающий вкус от Фёдора.
Фёдор был знаменит на весь городок. Этого худосочного долговязого молодого человека брали в аренду у владельца того самого кабака, где случилась драка между купцом Обрядновым и его товарищем.
С Фёдором вышла такая история. Его матушка, вдова, пять лет назад подрядилась в этот кабак убирать со столов и мыть посуду, а своего сына, подростка Фёдора, брала с собой пособить. Приборы убирать и мыть было утомительно, но ещё полдела, а вот тяжёлые котлы, чугунные сковороды и противни – тяжеловатенько. Тут и пригождалась мальчишеская сила и сноровка.
Владелец кабака позволял вдове один раз в день обедать за счёт заведения, а также покупать на кухне продукты по более дешевым ценам, чем в продуктовых лавках. Поставлялись продукты в кабак от купца Молотилова, поэтому ни в ценах, ни в качестве не имелось никаких сомнений. И пристроился Фёдор понемножку готовить из них ужин, пока матушка была занята, перемывала посуду на завтрашний день. Да так вкусно у него выходило, что половые, которым случалось иной раз задержаться, скоро стали скидываться и своими продуктами, чтобы ужинать тут же в кабаке.
– Ну, парень, котлеты у тебя просто во рту тают. Ты как делаешь-то?
– А и не знаю, как делаю, как внутри себя чувствую, так и делаю.
Эту его чуйку очень быстро заметил Мокий Иваныч, повар кабака, и уговорил хозяина, чтобы тот взял парнишку ему в поварята. Очень скоро слава о вкусноте обедов пошла далеко за пределы городка. И заведение, расположенное на окраине возле почтового тракта, быстро стало знаменитым. Ямщики и почтовые старались так подгадать поездку, чтобы обед пришёлся аккурат в этом городке. Да и пассажиры очень быстро разнесли славу по городам и весям.
Потом случилось несчастье, утонул Мокий Иваныч по пьяному делу. На его место, не задумываясь, хозяин определил долговязого юношу, который за пять лет своего подмастерья успел в совершенстве овладеть поварским мастерством.
Кто только не переманивал Фёдора. Ему предлагали место даже в лучшем ресторане Вологды, но он неизменно отказывался, объясняя, что никак не оставит матери и младшей сестрёнки. И никто не знал, что настоящей причиной его отказов был Семён Моковнин, теперь уже семинарист и, как ни странно, тайный друг Фёдора. Тайный, потому что не принято было дворянам дружить с низшими чинами.
Познакомились они в церкви, где Фёдор оставался помогать после вечерни чистить подсвечники на солее и заправлять лампы на клиросе. К церкви приохотила его мать, истовая православная, что особенно в ней развилось после смерти супруга. Семён же пользовался этой новой дружбой, чтобы помогать своей обнищавшей семье. Когда под покровом темноты он навещал Фёдора в кабаке, тот всегда приготовлял для него угощение, да ещё и с собой давал продукты.
Мать Фёдора этой тайной дружбы не одобряла, чувствуя что-то неладное, какую-то нечистоту. Тут, нужно сказать, она не ошибалась, потому что Фёдор проявлял какую-то совсем болезненную привязанность к Семёну. Он краснел при появлении товарища, ему становилось трудно дышать, и малейшее прикосновение руки или плеча доставляло странную сладость. Самое интересное, что Фёдор так и представлял себе чувство дружбы, взрощенный матерью во внимании и ласке, которая не жалела нежных чувств по отношению к своему любимчику, единственному сыночку, который был как две капли воды на батеньку похож.
Семён, более искушенный в тонкостях подобного рода, понимал про Фёдора то, что тот, по искренности и неведению своему, вовсе не понимал про себя, и, не особенно отягощаясь совестью, пользовался этой слабостью товарища в полной мере для решения своих проблем. То, что Фёдор в этих вопросах был совершенное белое пятно, целомудренное и не замаранное, Семён тоже понимал, что очень облегчало потребительские продовольственные цели.
Перед отъездом в семинарию Семён уговорился с Фёдором, что непременно после обучения сюда вернётся, и чтобы Фёдор пока присмотрел за его осиротевшим домом, дабы тот по истечении указанного срока мог принять своего временно отсутствующего хозяина в целости и сохранности. Расставание было коротким, но горячим. Фёдор, не скрывая глубокой печали, собирал другу корзинку с продуктами в дорогу, обильно орошая их искренними слезами, и даже отдал ему все свои накопления – три рубля, которыми Семён, разумеется, не побрезговал, а даже поцеловал Фёдора в щёку. После этого поцелуя ноги у Фёдора обмякли, подкосились и он опустился на скамью, пребывая в жутком душевном волнении и крайней противоречивости чувств.
Семён каждые семинарские каникулы приезжал домой, откровенно живя за счёт Фёдора, который считал невероятным счастьем помогать во всём своему единственному другу и товарищу.
И вот, шёл уже последний год обучения Семёна в семинарии, и по весне ожидался его приезд на постоянное житие. И, конечно, больше всего ожидали его возвращения Фёдор и купчиха Куприянова.
Меж тем свадьба набирала широту. Группа местных музыкантов из трёх престарелых евреев в парадных смокингах, на которых также неотвратимо отразились следы времени, старалась вовсю. Опыт и талант выжимали из скрипки, баяна и ударных весь модный провинциальный репертуар, который беззастенчиво варьировал между тоскливыми романсами и плясовыми. Гости, раскрасневшиеся от обильного и вкусного ужина, желали танцев и пения, что и сменяло одно другое, а под конец и вовсе стало совпадать. Дело окончилось тем, что после того, как молодых проводили в опочивальню, неотвратимо затеялась драка, куда, поперёк всех правил, ввязалась и купчиха Куприянова, изрядно набившая кулаки на воспитании своей дворни. Впрочем, её боевитости никто не удивился, когда она, вырвавшись из слабых рук Пал Петровича, тщетно её удерживавших, рванула в самую свалку дерущихся с криком: «Эх, не пропадать же силушке!» Впрочем, из драки её быстро выпихнули, оторвав рукав на дорогом платье.
Супруга Пал Петровича отвела её в свою спальню умыться и починить одежду, где Куприянова всхлипывала, жаловалась на одиночество и неустроенную свою жизнь. Настасья Николаевна утирала ей слёзы шелковым платком и приговаривала, что скоро, очень скоро всё непременно будет хорошо, всё наладится, непременно наладится. И суровая купчиха, знающая всю изнанку человеческой жизни, вопреки здравому смыслу отчего-то верила утешениям добрейшей Настасьи Николаевны.
Тем временем драка не утихала, переместившись вместе в еврейским оркестриком на улицу, где для пущего веселья зевак, скрипка и ударные старалась музыкально выделить, можно сказать подчеркнуть, наиболее выдающиеся фрагменты этого мордобоя, то принимавшего в себя, то отторгавшего новых и прежних участников. Это музыкальное сопровождение делало таковое чудо, что драка вовсе уже и не выглядела чем-то страшным и диким, а наоборот, какой-то странной театральной постановкой. И уже казалось, что и кровь не настоящая, и рваная одежда – всего лишь костюмирование и карнавал. И такая получилась злая шутка с этой музыкой, что уже и зеваки, засучив рукава, вместились в этот бурлящий муравейник.
Долго ещё шла слава и воспоминания об этой свадьбе. Некоторые даже вели отсчёт времени: «А это было по глубокой осени, когда у Молотиловых свадебная драка была». Впрочем, долго вспоминалось и угощение в хрусталях, но оно отчего-то забылось быстрее.
7.
Молодым определили жить в доме купца Молотилова, чему его супруга Настасья Николаевна была очень рада. Им выделили две комнаты в левом солнечном крыле второго этажа. Одна комната служила спальней, а другая – кабинетом. Так и оставили без всяких перемещений. Молодые, Мария Павловна и Фёдор Мартинианыч Садовниковы, остались таким размещением весьма довольны. И что более всего понравилось Молотилову, так это то, что Фёдор Мартинианыч, как будто всегда у них в доме жил. Он был столь же незаметен, как и супруга его, Настасья Николаевна, так же ловок и приятен внешностью.
– Так вот отчего выбрала его Настасьюшка, что он на матушку похож нравом. Ох, хорошо это, вельми хорошо. Как старчик-то правильно сказал, как сказал точно, – думал Пал Петрович, удобно расположившись в мягком кресле у печки-голландки, выложенной ласкающими око изразцами».
За окном сыпался и убелял округу густой снег, Покров давно миновал, и у ворот стоял ноябрь с голыми ветками яблонь и совершенно уже облетевшей берёзой за раскисшей дорогой. Дома было тепло, умеренно натоплено, к удовольствию Павла Петровича, не выносившего ни изнуряющего летнего зноя, ни чрезмерной жары в доме.
На двор заехала гружёная телега. Это привезли припасы из деревни, часть из которых уже была приготовлена на длительное хранение, а часть ещё предстояло переработать и разместить по кадушкам, банкам, коробам и всё это расположить в просторном каменном погребе – гордости Настасьи Ивановны. Погреб этот устраивался по её прожекту и был основателен, чист и удобен.
Ещё вчера Пал Петрович половину дня обсуждал со своей супругой меню семьи и дворни до Успенского поста. Почти ничего и не нужно было в этом списке менять, потому что Настасья Ивановна целый месяц всё обдумывала, рассчитывала и выясняла. В меню они обычно включали до шести столов. Первый завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ранний ужин и поздний ужин. То же самое касалось и дворни.
– Ну, матушка ты всё для постов припасла? Филиппов да Великий, сама знаешь.
– Батюшко, ангел мой, как не припасти. Хоть нынче и пошли новомодные веяния, но мы-то с тобой отступать не будем от традиции. Не нами установлено, не нам и отменять.
– Да, голубушка моя, правильно ты говоришь.
– А на пост у нас рыжиков да груздей хороший урожай был. Капусты насолено, репа, яблоки мочёные. Антоновка в этом году уж больно хороша. Пару кадок с капустой переложили. Матрёна сама управлялась.
Пал Петрович удовлетворённо кивнул. Матрёна в их загородном имении была великая мастерица на всякие соленья и заготовки.
Настасья Николаевна позвонила в колокольчик. На зов пришла Маняша, крупная, румяная девка с синими любопытными глазами.
– Ты, Маняша, вот что. Сходи к обозу да принеси на пробу понемножку всего. Груздей и рыжиков, капусточки квашеной в тарелочке, бочковых помидоров солёных да огурчиков. На кухне горячей картошечки возьми отварной, да скажи Матвеевне, чтобы маслица сверху положила и лучком посыпала. Давай, давай и живенько, голуба моя, – добавила Настасья Петровна с некоторым раздражением, зная Маняшину неповоротность.
– Будет исполнено, хозяюшка, – неторопливо поклонилась Маняша и, так же неторопливо развернувшись, выплыла из кабинета.
– Ну, вот что с ней сделать?
– А что делать? Пусть и такая, да зато аккуратная и честная девка, – со вздохом ответил Пал Петрович, прекрасно понимая, что медлительность и забывчивость Маняши доставляет его драгоценной супруге много неприятных минут.
Однако неожиданно Маняша проявила непривычную расторопность, через малое количество времени объявив, что в столовой уже всё накрыто. И, действительно, на белоснежной скатерти в изящных фарфоровых тарелочках уже красовались помидоры с огурцами с укропом и смородиновым листом, источавших изысканный аромат соленья. Горка квашеной капусты с мелко нарезанным репчатым лучком, щедро сдобренная постным маслом, соседствовала с тарелочками, полными рыжиков и груздей, выглядывающих из айсбергов белой сметаны. И, наконец, в центре на всё это взирала дымящаяся картошечка, посыпанная зелёным лучком, из-под которого растекалось нежнейшее сливочное масло.
– Это невыносимо! – восхитился Пал Петрович.– Если сейчас не принесут сюда холодной водочки, то, почитай, вся красота пропала! Да Марию Павловну зовите к столу.
Мария Павловна немедленно спустилась к пробе деревенских припасов. Да и водочка немедля появилась в хрустальном графинчике с такой же хрустальной рюмочкой.
– Вот! Теперь – совершенство, душа моя. Чистое совершенство! Ну, помолимся, благословясь. Пал Петрович, благословившись перед трапезой чтением положенной молитвы «Отче наш», пригласил всех приниматься за пробы.
За столом все не уставали нахваливать непревзойдённое мастерство Матрёны, совершенно забыв, что в кабинете так и остался не до конца обсуждённым журнал блюд на каждый день.
Импровизированный обед уже было подходил к окончанию, как в столовую вплыла Маняша и объявила, что пришёл Семён Моковнин и просит беседы у Пал Петровича.
– Такой обед испортить! – недовольно поморщился Пал Петрович, но всё же приказал пригласить.
В столовую вошёл стройный высокий юноша в чёрном подряснике, с забранными назад и перевязанными атласной ленточкой золотыми кудрями, с широко расставленными глазами цвета густой синевы и изящными чертами лица.
– Ангела за трапезой, – прозвучал нежный, приятный голос, сопровождённый поясным поклоном.
Было однако во всей этой красоте и изяществе что-то неприятное, показное, слащавое, ненатуральное, что всё семейство Молотиловых не могло должным образом скрыть выражение неприятности на лицах, хотя и постарались быстро его изгладить. К несчастью, вся эта минутная реакция не ускользнула от взгляда выпускника-семинариста: «Ну, попомните вы у меня, как морщиться». Но вслух произнёс:
– Прошу покорно извинить мой несогласованный визит. Поверьте, только крайние обстоятельства заставили меня прибегнуть к такой неделикатности.
– Да ладно, что уж там. Всякое бывает в нашей жизни. Прошу покорно отведать нашей еды простой.
– Очень и очень благодарен, – охотно согласился Семён, вечно голодный, про которого говорили однокурсники за глаза, а то и в глаза, что не в коня корм, и куда вся эта еда у него девается.
Нарушив приличия и поглотив по второй порции картошки, рыжиков и прочего всего, что присутствовало на столе, Семён, наконец, обратился к молчавшим во всё это время хозяевам:
– Необыкновенная вкуснота! Необыкновенная! Небось, ваша Матрёна-кудесница?
– Она, голубчик, она. Так чем обязаны визиту? – сдержанно, но вежливо произнёс Пал Петрович.
– Дело деликатное. Вы уже знаете, что я окончил семинарию и меня определили на здешний приход. Но место диакона не могу занять, потому что по правилам, как Вам тоже известно, я должен или жениться или принять постриг. Расположен я сам к первому, да вот никакой невесты у меня на пригляде нету. И родители мои, Царствие им Небесное, теперь уже в этом помочь не могут. Вот и обращаюсь к Вам как к отцу родному, не подскажете ли что по этому деликатному делу? Ведь всем известны Ваши ум и порядочность.
– Благодарю, конечно, на добром слове, – произнёс Молотилов после небольшой паузы, – но, однако, Ваш визит, а особенно и просьба застали меня в совершенный расплох. Поэтому Вы не должны обижаться, если сейчас я Вам ничего не скажу, и даже не пообещаю. Но готов подумать над этим вопросом и после сообщить, какой результат дадут мои раздумья.
– И на том спаси Господь, – поклонился Семён.– Благодарю за наслаждение трапезой. Возблагодарим Господа…
И, не дождавшись ничьего ответа, Семён повернулся к иконам и, перекрестившись, затянул: «Благодарим Тя, Христе, Боже наш…»
Потом попрощался, поклонился и покинул гостеприимный дом купца Молотилова.
– Уф, будто даже и воздух чище стал. Ну ты посмотри, уже и за священника себя возомнил. Поперёд хозяина молится! – возмущался Пал Петрович. – Всю трапезу осквернил… Небось, сейчас поедет к Куприяновой выставляться, да и там поест от души.
– Будет, будет, душа моя, не принимайте к сердцу, – утешала его Настасья Николаевна, делая Маняше знак убирать со стола.
8.
Пал Петрович оказался прав. На следующее же утро новоиспечённый выпускник семинарии направился к купчихе Куприяновой, которая давно ему симпатизировала и покровительствовала. Правда, с некоторых пор он почувствовал некоторое отстранение с её стороны и поэтому свой визит готовил с особенным волнением. Он привёл в идеальный порядок подрясник, вымыл голову, одним словом, навёл лоска и свежести в той мере, в какой это ему позволяли обстоятельства.
Купчиха лично вышла к нему из дверей и, увидев своего любимца, моментально забыла предостережение старца.
«Ну, не может такой ангелок быть с нечистотой внутри!» – тут же сказало ей очарованное сердце, и она приветливой улыбкой тепло пригласила молодого человека в дом.
«Уф, кажется, всё в порядке…» – полегчало Семёну, и он, подобострастно пригнувшись над ручкой своей благодетельницы, приложил её к своим устам со всей бережностью и почтением.
– Как я рад видеть Вас, моя матушка, моя благодетельница, ангел во плоти! – завёл Семён свою сладкую речь, чем доставил хозяйке океан невыразимого удовольствия.
– Да что вы, голубчик, какой же я ангел? Глянь, какие кулачищи, да и синяки у дворовых моих не сходят.
– Вы же без гнева, без гнева, добрейшая Катерина Петровна! А это прощается у Господа.
– Да как же без гнева? Бывает, и осерчаю. Но больше-то для порядку, конечно, для воспитания. Тут уж лукавить нечего.
Катерина Петровна быстро распорядилась, чтобы накрыли стол, да получше. И вышколенная горничная сновала с кухни в столовую с поразительной и неслышной скоростью, стараясь не поворачиваться к гостю синеющей скулой.
– Вот, сердце моё, прошу отведать что Бог послал, – и совершенно растаявшая купчиха смотрела, как стрункой встал её любимец на молитву, кладя крестное знамение основательно, а не абы как. И его медовый голос вознёс бедную Катерину Петровну чуть ли не в небесные пределы.
– До чего же красиво молитесь, просто ангельски! – восхищенная хозяйка лично ухаживала за гостем, накладывая ему на тарелку из блюда янтарный кусок осетрины.
Через час совершенно объевшийся Семён, которого неотвратимо клонило в сон, силился из последних сил не уснуть под непрерывный стрёкот Катерины Петровны, решившей отчего-то обсказать ему все события провинциальной жизни за тот период, пока семинарист отсутствовал в родном городке. Окончилось это полной победой сна и Катерины Петровны, потому что Семён всё-таки уснул в мягких креслах, куда они пересели после обеда.
– Уснул, ангел. Умаялся… Слышь, ну-ка, принеси подушку-думку и плед, – и охваченная нежностью купчиха лично укрыла гостя пледом, подложив ему под щёку маленькую подушку, а потом ещё целый час любовалась тонкими чертами лица и ровным дыханием спящего юноши.
– Да ну его, этого старца. Ну, ошибся он, может быть. Ведь тоже человек. Всё-таки не может быть зла в этом юноше, никак не может. К тому же по духовному пути пошёл, семинарию окончил. Завтра же позову стряпчего, пусть готовит бумаги на усыновление. Думаю, что ангелок не откажется. Сирота ведь, чистая сирота… – И Катерина Петровна смахнула с левой щеки крупную слезу.
Через час бодрый и наново голодный Семён открыл глаза.
– Ой, как стыдно, матушка, как стыдно! Ведь не дослушал вас, уснул. Совестно.
– Что вы, сердце моё, да это же так было хорошо, по-домашнему. Где ещё так поспать, как не у своих. Я же тебе вместо матери теперь, – утешительно произнесла Катерина Петровна, заметив невольно, как Семён бегло посмотрел в сторону обеденного стола.



