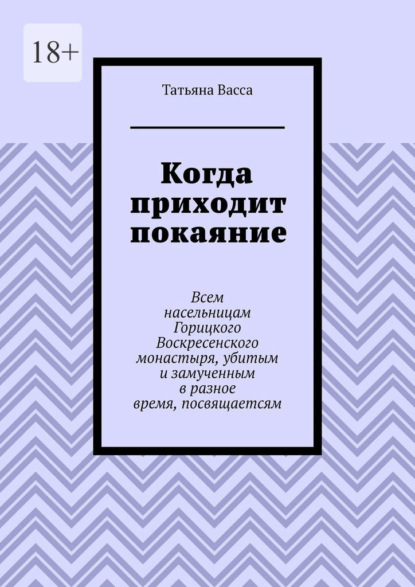
Полная версия:
Когда приходит покаяние. Всем насельницам Горицкого Воскресенского монастыря, убитым и замученным в разное время, посвящается

Когда приходит покаяние
Всем насельницам Горицкого Воскресенского монастыря, убитым и замученным в разное время, посвящается
Татьяна Васса
© Татьяна Васса, 2025
ISBN 978-5-0065-5611-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Когда приходит покаяние
«Всем насельницам Горицкого Воскресенского монастыря,
убитым и замученным в разное время, посвящается».
1.
Дом купчихи Куприяновой на городской окраине был крепок, основателен и смотрел на ютившиеся рядом с ним одноэтажные домишки немного свысока. Да и впрямь, зрелище вокруг было не очень-то весёлое. Из бревенчатых соседей кто покосился, кто был подслеповат, а у кого забор наклонён. Одним словом, нищета. Поэтому старинный особняк купеческий, рубленный из лиственницы выглядел чужим, неуместным, да и неизвестно зачем выстроенным на отшибе маленького провинциального городка Вологодской губернии.
Сама купчиха Куприянова, вдовствующая седьмой год, была под стать своему дому: дородная, широкая в кости, по-мужски басовитая и рослая. У ней над верхней губой даже усики были, но по их седине не сразу бросались в глаза. Дворовые купчиху побаивались и, едва заслышав сочный бас своей хозяйки, сразу норовили спрятаться кто куда. Была купчиха ко всему и крепка на руку, когда полагала, что «неча бисер метать». Причём била тоже по-мужски, направляя кулак сверху вниз стремительно и прямо в лицо. Поэтому дворня её щеголяла по всему городку неистребимыми синяками то под глазом, то на скуле. А изрядно провинившихся она лично секла розгами на каретном сарае, расположенном во дворе её большого дома. Однако дворовые от неё не убегали и прислуга не увольнялась, даже наоборот, попасть к купчихе в услужение считалось редкой удачей, потому что Куприянова была щедра на жалованье и «компенсации» за побои. Такая щедрость появилась у неё не сразу. И до известного события купчиха считалась крайне скупой и прижимистой.
А событие это было печального рода – внезапная преждевременная смерть её супруга, драгоценного Павла Ивановича. Поговаривали, и не без оснований, что «драгоценного» своего купчиха прибила насмерть после очередного любовного подвига с новой кухаркой.
Супруг её, а это было известно всему городку, отличался безудержной, болезненной склонностью к женскому полу, и сколь застигаем и бит не был своей суровой супругой, оставить сего занятия не мог никак. Трезвый он ещё как-то держался, но стоило попасть ему «на нюх» наливочки сливовой или просто чистой водочки – всё, пропадал Павел Иванович в объятьях какой-нибудь не очень строгой девицы или вдовицы, а то и прислугой не брезговал. Все эти «подвиги» непременно доходили до слуха незабвенной супруги, которая держала для этого чуть не штат всяких осведомителей. А уж когда измена становилась совсем ясной, то Павел Иванович пару недель никуда не выходил из дому, никого не принимал, кроме лекаря Шварца, говорившего со страшным немецким акцентом, но всё же как-то прижившегося в этом маленьком городке и пользовавшего чуть не половину его жителей.
– Што, сударь, оппят пил Вас супруг?
– Да не пил, а била! Била, зараза такая. Уж как я, голубчик, уворачивался. Так разве от неё увернёшься? Рука-то, батенька, у неё тяжела. Ох, сударь мой, тяжела, – приговаривал Павел Иванович, держась правой рукой за рёбра.
Шварц сочувственно кивал головой, готовя битому Павлу Ивановичу квасные примочки для облегчения синяков, потому как лицо бедняги было совершенно опухшим, разных оттенков синего и фиолетового.
Шварц, нужно сказать, побаивался навещать для лечения Павла Ивановича, потому что ему приходилось пересекать гостиную, чтобы подняться по лестнице на второй этаж супружеской спальни, под угрюмым и выразительным взглядом купчихи. Взгляд этот выражал только одно: «Лечить лечи, так и быть. А коли кому скажешь о причине, сам кулака испробуешь». Поэтому, да и не только поэтому, а еще и по врачебной обязанности, Шварц хранил причины «болезни» Павла Ивановича за зубами, причём хранил особенно старательно.
История с кухаркой произошла так стремительно, что никто и не ожидал. Так получилось, что прежнюю, по причине несдержанных ласк Павла Ивановича, только что прогнали со двора, а новую, нанятую, ещё не успела осведомить дворня о привычках хозяина и барыни. А Павел Иванович, как на грех, набрёл в дворницкой на штоф водочки, чистой аки слеза. Ничуть не смутившись тем, что дворник Михеич припас её для себя, вожделея разговеться вечерком, Павел Иванович ловко штоф ополовинил и, совершенно готовый к мужским подвигам, отправился на кухню якобы чего-нибудь закусить, а на самом-то деле поглядеть новую кухарку, уже прознавши про её пышные, выразительные формы. И, случись, только подкрался сзади к бедной женщине да ухватил её за крутые бёдра, как тут, откуда ни возьмись, вошла супруга отдать распоряжения относительно ужина. Одним ударом кулака в висок был сражён Павел Иванович насмерть, даже не успев понять, что же, собственно, произошло.
Вызванный немедленно Шварц под угрюмым взглядом супруги, так стремительно переменившей статус на вдову, быстро констатировал смерть от неловкого падения и удара виском об угол табурета. Кухарка была оставлена служить при доме: «Дабы всегда на виду была, да языком почём зря не молола». Причём оставлена была с двойным жалованьем.
Вот, с этих-то пор и стала купчиха Куприянова щедра на оплату и другой прислуги, видно, стараясь как-то искупить вину, как бы наложив на себя епитимью пожизненную за убийство своего непутёвого супруга.
2.
Стояла глубокая осень. Михеич сгребал в кучу у ворот листья лип и яблонь, ворча под нос, что всё никак не грянет морозец и слякоть эта надоела: «Таскають жижу енту по всяму двору, и когда придёть кончина. Уж и Покров прошёл как седьмицу, а и всё никак…» Говорок выдавал в Михеиче пскопского мужичка из далёкого села. Приехал он с сотоварищи ещё по молодости на отходничество в Вологодскую губернию. Рубили дворы. Всё было ладно. А третьего лета напились на Пасху в кабаке, задели вологодских мужичков. Вологодские, известно, с ножичками. Порезали из их пскопской компании троих до смерти, а Михеича, тогда ещё попросту Адрияна, только по щеке полоснули да до беспамятства избили. Очнулся он в притоне каком-то. В`ыходила его девка гулящая, до этого все карманы у него обчистившая и просто так деньгой усовестившаяся пользоваться.
Как только Михеич пображивать до ветру начал, так и спровадила со двора. Сел он ещё слабый на какую-то телегу попутную. Из милости взял его мужик, возвращавшийся в городок домой. Так и осел ещё молодой Адриян в том городке, до дому так и не добравшись. Кому он дома-то нужен был, такой слабый, да порезанный. Взяла его тогда, с проживанием и столованием, жадная до денег купчиха Куприянова, потому как парень обещал выкрепиться да за копейки работать. Определили его в каморку позади дома, которая с тех пор и стала называться дворницкой.
Как стал Михеич крепнуть, так стала барыня на него дела накладывать сверх дворницких: за лошадьми ходи, экипаж чини да закладывай, когда и за покупками сопроводи, таскай что потяжелее. А жалованья добавила с гулькин нос. Но Михеич не роптал, был он парень не придирчивый. Есть крыша над головой да еда – и за то Богу спасибочки и поклон. Прислуга, бывало, выговаривала ему: «Что ты, Михеич, такой простоволосый. На тебе едут, а ты и везёшь, да не покряхтываешь. Ведь чуть не за скотину держат!» На это Михеич молчал, укоряюще смотрел из-под бровей и уходил, сказавшись занятым. Однако нужно сказать, что из всей дворни только Михеич без синяков и обходился. Ни разу купчиха не подняла руку на бессловесного своего дворника. И не то чтобы добра была, а только думала, что и так парня судьбинушка не пожалела. Изуродован с юности, да задаром почти бессловесно ношу тянет, будет с него горя.
Странно, однако, это было для Куприяновой, поскольку водились за ней совершенно безжалостные поступки. Вдову с пятью детьми не жалела, выставила на улицу за долги, отобрав себе их старенькую избу. Да и зачем ей эта изба была? Всё равно никуда её было не сбыть, даже на дрова пустить без прибытку. А вот отобрала же и выгнала в зиму, со странным каким-то наслаждением выгнала. И потом не пожалела, а как вспоминала то, так, кажется, и убила бы и саму эту тощую и выродков её пятерых. А вот Михеича не тронула ни разу, хоть и бывал иной раз повинен, но не специально, а так, попросту, по человеческой природе.
Михеич поставил метлу к забору, а сам пошёл за граблями в сарай. А тут в ворота стучат.
– Кто будешь? – спросил Михеич, отодвинув зорную дощечку.
– Адриян я, паломничаю. Ночлегом не богаты? – отвечал ему молодой голос, который ничуть не вязался с сухоньким образом старичка, тёршегося у забора с котомкой да палкой.
– Ну, зайди, – сказал Михеич, услышав своё, давно забытое имя, всколыхнувшее в нём всё светлое и несбывшееся.
– Благодарствую. Храни Господь, – протиснулся старичок в ворота, перекрестившись и сняв перед Михеичем шапку, как перед образами.
– Жди тут, щас у барыни спрошусь.
Пока Михеич ходил к барыне за разрешением, старичок стоял, склонив голову, и даже двор не осматривал. Не поднял он головы даже тогда, когда перед ним шурша накрахмаленными юбками прошествовала с деланой важностью пышногрудая кухарка, будто не замечая путника.
– Да делай что хочешь, – отмахнулась купчиха от робкого Михеича. – Только проходного двора мне тут не устрой, – ворчливо сказала барыня, внутри однако заинтересовавшаяся, кого это Михеич согласен в своей дворницкой приютить, за всё время никого туда ночевать не пустившего, хоть и просились некоторые.
Как только Михеич вышел из кабинета, барыня подошла к окну и усмотрела старичка, неподвижно и покорно ожидающего участи у ворот. Что-то в сердце её повернулось, вначале похолодело, а потом исполнилось странной сладости.
– Ох, непростой старичок… непростой… – подумала она и положила себе к вечеру наведаться в дворницкую, да приглядеться к ночлежнику попристальнее.
3.
Не успела Куприянова отведать горячего супчика с потрошками, как услышала, что у ворот остановился экипаж. Михеич уже отворял их широко, чтобы тарантас купца Молотилова смог проехать на просторный купеческий двор. Гостям Михеич был, по-своему, рад, потому что Ипат, кучер Молотилова, был его давним знакомым и, вообще, человеком добрым и не болтливым. Ипат ходил всегда опрятным и носил при себе невиданную вещь – часы. Часы эти подарил ему барин, но не для форсу или баловства, а чтобы Ипат всегда знал время, когда подавать экипаж, особенно если барин был на выезде.
Молотилов вообще любил точность и определённость во всём. Пунктуальность была его болезнью, сопротивляться которой он не умел и не хотел. Если кто-нибудь, даже из больших чинов говорил ему такое: «Ну, голубчик, заедь ко мне как-нибудь на недельке», – то Молотилов, не обращая внимания на возможное неудовольствие начальства, всегда въедливо выяснял, в какой именно день и в котором часу ему необходимо быть. Все эту его привычку знали и про себя подшучивали, называя его за глаза, а иной раз и в глаза «господин-который-час».
В добавление к пунктуальности имел Молотилов ещё одну слабость – занудство. При покупке товара он до последней детали желал всё об нём узнать, даже порой такое, что, казалось, и вообще значения не имеет. Например, не просто из шерсти какой породы овец было изготовлено сукно, но и где эти овцы были выращены. Когда ему возражали, мол, это ещё зачем, он хмурился, сразу подозрительно поглядывал и ответствовал: «А у вас какие причины сие скрывать имеются?» Продавцы мялись и посылали подручного человека уточнить, про себя ворча, что эдакого зануду да придиру ещё поискать. Ворчать-то они ворчали, а все давно знали и за пределами городка, что ежели сам Молотилов что продаёт, то это непременно будет вещь первоклассная, качественная, без надувательства и по своей цене.
Но и продавал Молотилов тоже с занудством. Он ни за что не отпускал покупателя, пока не перечислит ему во всех подробностях мельчайшие свойства товара. Да так перечислял, что вовсе не хотевший этого знать покупатель, бывало, внутри себя чуть не на стенку лез от таких подробностей, но терпел и молчал, поскольку все знали, что ни за что не подпишет Молотилов купчую или не даст своего купеческого слова, пока всё до тонкостей не пояснит. Ещё знали, что Молотилов при продаже никогда не торговался: какую цену объявит – той и конец. Никогда не снижал, хоть и уходил от него иной покупатель. А со временем так и стало, что если покупатель приходил, то уж это был свой, который даже и не принимался торговаться, а за оговорённую цену и пришел брать.
Михеич помог Молотилову вылезти из тарантаса, поскольку о больной ноге знал давно. Лёгкий Молотилов крепко опёрся на руку Михеича и, встав на здоровую ногу, опёрся на дорогую трость, таким образом, прихрамывая, но достаточно бодро отправился к парадному входу. Ему навстречу вышла сама Куприянова в шерстяном клетчатом платье и в козьей оренбургской белой шали, которая так шла её седине.
– Ах, и статная же она! – восхищенно подумал про себя Молотилов, радуясь встрече со «старинным товарищем».
– Голубчик! Любезный! Как ты кстати! Давай-ка, не откажи бульончику горячего с потрошками, да наливочки нашей, – раскрыла Куприянова свои широкие объятья, и Молотилов утонул в этой белой тёплой шерсти на уютной купчихиной груди, без всякого эротизма, а только с надёжным товариществом. Где-то в глубине себя он знал, что Куприянова за своего друга может если не жизнь отдать, но многим пожертвовать себе в значительный вред, и чувствовал себя в этой дружбе как за каменной стеной.
– Из твоих рук хоть яду, – благодарно и нежно отвечал Молотилов, освобождённый из объятий и следуя за колыхающейся широкой купчихиной юбкой.
– Как у неё всё ладно в доме да крепко сделано, и чистота кругом какая…
– Как у тебя чисто всегда, – сказал уже вслух для начала беседы.
– Да как не чистота, вон она, чистота, вся в синяках бывает у дворни моей.
– Ты бы это… не очень-то… – робко вступился Молотилов за прислугу, зная, что и сейчас встретит отпор.
– Ты, это, голубчик, брось адвокатствовать. Если б не это, давно бы грязью заросла, и они все у меня вот на этой шее (Куприянова крепко похлопала себя ребром ладони по шее) всем кагалом уже ездили бы и не слезали!
– Будет, будет, Катерина Петровна, будет… – примиряюще сказал Молотилов, предвидя, что нажал на больное место и теперь аргументам не будет конца.
– Будет… – ещё не остывши, проворчала Куприянова, – будет ему… Ну, ладно, давай-ка, голубчик, к столу.
В комнату уже вошла горничная девка, неся таз, кувшин с чистой водой и рушник умыть барину руки.
– И сама-то девка какая крахмальная, – отметил про себя, предвкушая вкусный обед, Мотовилов, вытер руки и отпустил из них рушник. Но и синяк на скуле не ускользнул от его внимания.
– Давай-ка, голубчик, потрошков, – разливая лично из фарфоровой супницы в тарелки такого же белоснежного фарфора с голубыми незабудками, приговаривала купчиха. И, на самом деле, от супа аромат шел такой, что никакой лучший ресторан сравниться не мог. А хрустальные рюмочки уже наполнялись вишнёвой наливочкой, которая в хрустале играла такими красками, что хоть на холст и в музей.
– Выпьем, друг мой, для аппетиту, да для доброй беседы, – поднимала свой хрусталь статная купчиха, сопроводив слова взглядом, полным предвкушения и одобрения.
– Благодарствую, Катерина Петровна! – И Молотилов ловко, одним махом отправил наливку в положенное место, крякнул и аккуратно промакнул льняной крахмальной салфеткой бороду и усы.
Молча ещё минут пять они наслаждались горячим супом с потрошками, только было изредка слышно, как иной раз неловко касались серебряные ложки донца тарелок. Одной тарелкой не обошлось, и они с большим аппетитом откушали ещё по одной и, наконец, довольные и румяные, откинувшись в креслах, приготовляли себя к беседе.
Неслышная горничная девка ловко убрала со стола, оставив только наливочку да фруктов в плетёной вазе.
– Вот какое дельце у меня, Пал Петрович. Знаешь ты, что всю жизнь бездетна я, а состояние у меня имеется немалое. Хочу усыновить Семёна Моковнина, паренька этого, дворян Моковниных, Царство им Небесное. Он сейчас семинарию кончает в Вологде. Сюда должен приехать, а к чему? Только дом пустой да старый…
За что ещё очень уважал Молотилов своего друга Катерину Петровну, так это за то, что она умела переходить сразу к делу, без всяких обиняков и околичностей.
Молотилов, ничего не отвечая, принялся думать. Семёна этого он знал, но всегда был к нему подозрителен. Ему никогда не нравились ангельские да гладенькие. Всегда ожидал он от них какого-нибудь подвоха. Молотилов по опыту знал, что в тихом омуте всегда чертей больше, и потерпел от этих чертей немало. Да и слабость женского сердца на внешнюю красоту тоже знал. И уж нипочём не думал, что и Катерина Петровна такую глупость затеет.
После приличествующей паузы, откашлявшись, Молотилов сказал: – Понимаю, паренёк смазливенький, не глуп. Да и не глуп как-то заурядно. Никакой личности за ним не видно. Не знаю, не знаю…
– Да какую личность тебе надобно, ведь юн ещё!
– Не скажи, Катерина Петровна, личность она уже и с пелёнок видна. А этот так: ни рыба, ни мясо, ни попу кафтан…
– Эх! – досадливо сказала купчиха, ожидая от Молотилова одобрения своей затее, а получив обратное. Уж очень ей не хотелось отказываться от своей затеи.
– Уж ты как хочешь, голубчик, а приедет, так я присмотрюсь. Да и тебя прошу присмотреться, может, переменишься во мнении…
– Ой, боюсь, ничего из этого доброго не выйдет, – подумал про себя Пал Петрович, а вслух сказал: – Ну, только ради дружбы нашей обещаюсь.
4.
– Друг любезный, послушай. Тут старичок один, странничек, у Михеича в дворницкой остановился на ночлег. Кажется он мне необычным каким-то, чудным. Хочу пойти, присмотреться. Составишь мне общество?
– Старичок? – изумился Пал Петрович, не подозревавший Катерину Петровну в праздном любопытстве, а тем более, в мистицизме. Уж кто-кто, а Куприянова всегда была крепка умом. Только вот с намерением усыновления что-то подкачала.
– Да, Пал Петрович, старичок. С виду как обыкновенный, а сердчишко моё ёкнуло отчего-то.
– Ну, так и быть, пройдусь с тобой, полюбопытствую.
Они поднялись, Катерина Петровна накинула на плечи ту самую белую шаль и направилась к дворницкой. Двери были приоткрыты, и Катерина Петровна громко позвала:
– Михеич тут ли?
Из двери немедленно вышел Михеич, будто тут за ней и стоял.
– Ну, покажи, что ль, постояльца своего, предъяви народу.
– Сейчас, – буркнул Михеич и зашел в дворницкую. Барыню с гостем он приглашать не стал, там и двоим было тесновато, а уж четверым и вовсе не разместиться. Через минуту в дверях показался сухонький, весь седой старичок с необычно синими глазами на изрезанном морщинами лице. Он каждому из пришедших отвесил по поясному поклону и, легко и вопросительно взглянув на них, опустил голову.
Куприянова почувствовала неловкость, что вот она сюда пришла и ещё привела Молотилова невесть зачем, но уходить без результата ей не хотелось, хотя она ещё больше уверилась, что старичок совсем непрост.
– Вот что, скажи-ка мне, любезный, откуда и чьих ты будешь? – вопрос у Куприяновой получился чрезмерно резким и громким от внутреннего смущения, которое она пыталась скрыть.
– Так, ить, матушка совсем другое спросить-то хотела. Иное на сердце у тебя: усыновлять парнишку али нет? – совершенно спокойно, без укора, а как будто даже поощрительно отвечал старичок.
– Так что скажешь, мил человек, усыновлять? – ничуть не удивившись прозорливости путника спросила Куприянова, уже затаённо, как о приговоре.
– Всё одно усыновишь, и предостережение моё забудешь, – печально и ласково сказал старичок.
– О чём предостережение?
– Не захочешь, а войдёт он в твоё сердце накрепко, да так, что любому движению перста его повиноваться будешь. К концу приведёт печальному.
– Так он ведь эдакая овечка, можно сказать ангелок?
– Какая он овечка и ангелок, тебе уже старинный твой приятель пытался объяснить. Ведь так? – и старичок всем телом развернулся к Молотилову, стоящему чуть поодаль и с великим вниманием следившему за разговором.
– Ведь так, – согласно кивнул Молотилов, уже желая и сам спросить старичка о наболевшем.
– Хороший жених, отдавай, не сомневайся. И тебя в старости поддержит, – сказал старичок, глядя Молотилову прямо в глаза.
Молотилов даже ахнул про себя: «Про дочь-то он откуда знает?!»
Дело в том, что у Молотилова была единственная дочь на выданье, и сватался к ней приказчик купца Обряднова. Ловкий парень, оборотистый, умелый. Так запала ему в сердце Мария Молотилова, что, несмотря на разрядное препятствие, он всё же лелеял надежду составить ей партию и счастливо жить.
– Да ведь не пара он ей. Кабы купеческий сын… – отговаривала Куприянова своего друга от этого шага, а уж её в отсталости взглядов никак было не упрекнуть.
– Не гляди, что из простых. Сердце у него золотое, – сказал старичок и, снова поклонившись стоявшим в пояс, развернулся и исчез в проёме дворницкой, как будто исчез. И Куприянова и Молотилов поняли, что больше не скажет он ничего, и так они получили более желаемого, и молча поворотились и ушли в дом.
– Однако, старичок… – первым нарушил молчание Молотилов, пригубив наливки, которая сейчас оказалась очень кстати, чтобы управиться с волнением от таковых известий. То, что старичок говорил истинную правду, было ясно им обоим. После этой фразы вновь наступило глубокое молчание, где каждый обдумывал своё.
– Да, с усыновлением прав ты, пожалуй, – нарушила молчание Куприянова. В ответ Молотилов согласно кивнул и, попрощавшись с купчихой, поблагодарив за обед и за старичка, отправился домой.
Дома его ждали к ужину супруга Настасья Николаевна и дочь Мария Павловна.
Ещё с порога отцова любимица, сероглазка Мария, заметила в нём какую-то важную перемену. Перемена эта была в нём всегда, когда принимал он большое решение и отступать уже не намеревался. Всякие раздумья, которые были до этого рубежа, отсекались и забывались, и Молотиловым овладевало единственное решение, рабом и слугой которого он с этого момента становился.
– Зайди-ко ко мне в кабинет, как переоденусь, – поцеловал ласково Пал Петрович свою румяную дочь в нежный висок.
– Непременно, батюшка, – ответствовала та, наполняясь отчего-то счастливым предчувствием.
Супруга Молотилова, Настасья Николаевна, совершенный призрак, как её иной раз называл супруг, пошла проконтролировать, достаточно ли свежее домашнее платье у него подано в кабинете, прежде чем он сам туда придёт.
«Призраком» Молотилов любовно именовал супругу свою потому, что та была совершенно незаметна не только при домашних своих, но и при гостях. Даже если на ней было самое яркое платье, и в нём умудрялась она пребывать незамеченной, как будто её и не было вовсе. Но, что удивительно, «призрак» этот вёл хозяйство так, будто бы всё само собой делалось.
Попроси кого описать, какова на внешность Настасья Николаевна, никто бы этого и сказать не смог, хотя видел её много раз и подолгу. Росточку она была среднего, лицо бледное, с большими серыми глазами и правильными чертами. Волосы её были всегда убраны волосок к волосочку, и сама она всегда светилась необыкновенной чистотой и свежестью.
Замуж за Пал Петровича она была сосватана без всякой любви, и даже без предварительного знакомства. Так сговорились их родители, которых связывали общие дела, хоть и жили они в разных городах. За неделю до свадьбы привезли родители невесту в дом своих знакомых, потому что в дом жениха везти было непристойно. За обедом будущих супругов и познакомили. Друг в друге они не вызвали никаких отрицательных чувств, что оба сочли уже за большую удачу. А со временем сжились так, что и представить было невозможно, что мог быть у каждого из них какой-нибудь другой супруг.
5.
Дом Молотиловых гудел, как улей. Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Мария Павловна не вылезала от модистки в соседнем переулке, которая шила ей подвенечное платье и очень нервничала. Нервничала потому, что сама невеста постоянно пребывала в страшном волнении. То ей казалось, что материя вовсе не та, то кружева неказисты, то в талии перетянуто. Модистка сдерживалась из последних сил и готова была даже отказаться от заказа и вернуть аванс. Но как раз в эти решительные минуты готовности к отказу Мария Павловна, будто предчувствуя, менялась, успокаивалась и позволяла модистке дальше колдовать над свадебным нарядом.
Бедная Мария Павловна уже месяц как не верила своему счастью, её любезный Фёдор Мартинианыч, высокий, кудрявый брюнет лет тридцати, едва находил время, чтобы хоть мельком, хоть на людях увидеться со своей суженой. Дело в том, что его хозяин, купец Обряднов, вдруг вздумал ревновать и отчего-то забил в своей голове, что любимый приказчик сразу от него уволится и перейдёт к своему тестю, купцу Молотилову. И хотя Фёдор изо всех сил убеждал, что никуда уходить не желает и никаких купеческих секретов выдавать не собирается, все эти убеждения уходили в пустоту:



