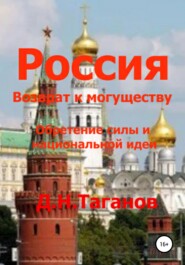 Полная версия
Полная версияРоссия – возврат к могуществу. Обретение силы и национальной идеи
Получив власть, Горбачев приступил к назревшим преобразованиям, однако противоречивым и непоследовательным. Что было и ожидаемо от генсека компартии, реформы были надежно «привязаны» к марксистско-ленинским догмам. Но и эти полумеры, названные «Перестройкой», встретили поддержку в народе и вызвали надежды.
Своей внешней политикой Горбачев демонстрировал курс «на интеграцию СССР в сообщество западных стран». В своем письме лидерам «семерки» Горбачев писал: «На нашу встречу в Лондоне возлагаю большие надежды. Есть все основания полагать, что она может стать поворотным пунктом в процессе ограниченного включения Советского Союза в мировое экономическое сообщество». Однако на кокетливое заигрывание Горбачева с Западом, последний, прекрасно понимая безвыходность положения СССР, стал выдвигать серьезные требования. Деньги становились нужны стране «позарез», валютных резервов не оставалось, расходы только росли. Однако на просьбы Горбачева предоставить кредит в 20 млрд. долларов «на преодоление внутренних трудностей», западные партнеры связали получение денег с прекращением военной помощи Кубе («острову свободы», давнему союзнику СССР), с «более гибкой» позицией в отношении германского вопроса «о воссоединении», с «большим самоопределением» прибалтийских республик, и прочим. Неожиданно Советская страна, после 70 лет великих свершений и побед, оказалась «у разбитого корыта», нищей, просящей у врагов подачку на пропитание.
Постепенно Горбачев спустил «задарма» все наши стратегические козыри. Под улыбки и мизерные деньги на обустройство на новом месте были выведены наши войска из Восточной Германии, составлявшие доминирующую силу в Европе. Горбачев удовлетворился «дружескими» устными обещаниями западных лидеров не продвигать силы НАТО к нашим границам. Об этих обещаниях никто потом и не вспомнил на Западе, и войска НАТО встали в сотнях метров от границы с Ленинградской областью. Также необдуманно Горбачев поддался давлению госдепа США по разграничению континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях. Со своим министром иностранных дел он безвозмездно подарил США 46,3 тысяч квадратных километров нашей территории в Беринговом море. «Американцам достались не только богатые рыбой промысловые районы Берингова моря, но и значительная часть континентального шельфа, в том числе перспективные участки нефтегазовых бассейнов «Наваринское» и «Алеутское»».
Однако в результате уступок горбачевский СССР в семью «цивилизованного» Запада, куда новый генсек так стремился, не приняли – великое государство продемонстрировало полное банкротство, как в финансовом, так и в политическом плане. Холодная война, длившаяся 45 лет между СССР и странами НАТО, была полностью и позорно проиграна.
Столь же безуспешной была и внутренняя политика Горбачева. Под давлением партийных элит союзных республик, имевших, в частности, националистические интересы и искавших для себя большей свободы, Горбачев начал готовить новый «Союзный договор». В начале августа 1991 года он выступил с обращением к народу, объявив, что «Союзный договор» открыт к подписанию. Однако дело закончилось в том же месяце не подписанием крайне противоречивого договора, а пленением генсека его же соратниками из партийной и силовой элиты. Путч был пресечен исключительно благодаря решимости Бориса Ельцина, президента Российской союзной республики (РСФСР), однако Советскому Союзу оставалось жить после этого всего несколько месяцев.
8 декабря 1991 г. президенты России, Украины и председатель Верховного Совета Белоруссии подписали в Беловежской пуще «Соглашение о прекращении существования СССР». Как косточки домино за Украиной и Белоруссией отпали и прочие союзные республики, и к удивлению их народов, дружно прошел «парад суверенитетов». Советский Союз «бесшумно» и «незаметно» рассыпался после 70 лет своего существования.
Так в России очень буднично, без жертв, «репрессивный» и «кровавый» коммунистический режим за несколько декабрьских дней сменился на свободный и демократический строй. Таким новый строй был преподнесен народу России, и это было правильно, справедливо, хотя и с большим запозданием. Но случилось это вовсе «не волей» народов, населявших просторы страны, а решениями и энергией лишь властной элиты России, нескольких десятков человек, – с партбилетами Коммунистической Партии Советского Союза в карманах. В Москве мирно, в декабрьских вечерних сумерках спустили с кремлевского флагштока кроваво-красный большевистский стяг и подняли триколор Февральской демократической революции 1917 года.
Инициаторами и проводниками эпохальных перемен в России были партийные функционеры высшего звена, и прежде всего, Борис Николаевич Ельцин. В прошлом инженер-строитель, он начал подниматься по партийной лестнице в Свердловске, занимая затем посты Первого секретаря партии области, секретаря ЦК КПСС, первого секретаря Московского горкома партии. Это был человек, убежденный в ошибках и разложении своей партии, понимавший и знавший все пороки коммунистического режима изнутри. Он искренне верил в демократию и свободу для России, в необходимость прекращения идеологической и военной конфронтации с Западом.
Весьма драматично и публично происходила политическая борьба Ельцина с генсеком Горбачевым, представление о которой дают следующие отрывки из публикаций. «Ельцин резко выступил на Пленуме ЦК КПСС, критиковал стиль работы некоторых членов Политбюро…, медленные темпы перестройки, в числе прочего заявил о зарождении «культа личности» Михаила Горбачёва, после чего попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого подвергся встречной критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее поддерживал…. В конце концов, был вынужден покаяться и признать свои ошибки…. Пленум вынес резолюцию считать выступление Ельцина «политически ошибочным» и предложил МГК рассмотреть вопрос о переизбрании своего первого секретаря».
Позже Ельцин часто выступал на политических митингах, захлестнувших в то время Москву. Весной 1989 г. он избирается народным депутатом СССР, получив более чем 91% голосов в одном из округов Москвы. 29 мая 1990 года Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1990 г. под его председательством Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, предусматривавшую верховенство российского законодательства по отношению к союзному. Менее чем через год этот акт позволил объявить Советский Союз распущенным.
После смерти Ельцина экс-канцлер Германии Гельмут Коль назвал его «великим государственным деятелем» и «верным другом немцев». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Ельцин «был великой личностью в российской и международной политике, мужественным борцом за демократию». Подобным образом его оценивали после смерти и в России: «Значение Бориса Николаевича невозможно переоценить… Борис Николаевич был соразмерен той великой стране, которая называется Россия». Борис Ельцин был, пожалуй, единственным диссидентом в СССР, активно боровшимся с коммунистическим режимом и добившимся успеха. При общем недовольстве населения неэффективным и репрессивным режимом, в который опустилась советская страна, иных значимых лидеров активного протеста в стране так и не появилось.
Диссиденты были, конечно, и в России, т.е. люди, открыто высказывавшие свой протест против властей и режима, но не имевших доступа к государственным СМИ и публиковавших протестные материалы только за границей. Они были почти неизвестны населению страны. Их роль во внезапно произошедших в конце 80-х и начале 90-х годов политических преобразованиях была практически равно нулю. Никто из них не показывался на трибунах уличных митингов, не пытался избираться в ставший либеральным российский парламент. Поэтому никто из них, известных и ценимых только на Западе, даже отсидевших срок за «антисоветскую деятельность», не только не вошел впоследствии в новое правительство, но даже не стал известен сколько-нибудь широко, и не «прославлялся» за былые заслуги, как это произошло в странах «народной демократии», освободившихся от «коммунизма» вслед за Россией. Исключение составляет писатель Александр Солженицын, вернувшийся впоследствии в свободную Россию из принудительной высылки и ставший затем высшим моральным авторитетом. Значительную роль в либерализации страны сыграл и «отец» отечественной водородной бомбы академик Сахаров, также сосланный ранее. Безусловно, они были высокими пассионариями своего времени.
Представляются безразличными к «освобождению» из «оков» СССР почти все народы и элиты союзных национальных республик. Подписание в 1991 году лидерами трех республик в Беловежской Пуще акта о роспуске СССР было воспринято народами и элитами многих союзных республик сначала не только без энтузиазма или революционной эйфории, но даже с некоторой обидой и опаской. Все привыкли жить «за пазухой» у большого сильного «брата», оберегавшего их от любых напастей, единственного знавшего верный путь и направление, всегда готового прийти на помощь, в том числе, привычными денежными трансфертами. Никто не был готов к самостоятельной жизни. Случившиеся же ранее беспорядки в Грузии, Азербайджане и Латвии правильнее отнести к национально-освободительным эксцессам, чем к народным восстаниям или попыткам свержения строя.
Российский же народ, недовольный властями и режимом, остро чувствовавший общую несправедливость и порочность, наблюдавший стремительно развивающуюся слабость государства, дружно, с надеждой, и в некоторой растерянности последовал за малопонятными ему призывами ельцинских «демократов» к Свободе и Демократии.
15. Слабость и утрата национальной идеи
Крах СССР показал не только банкротство коммунистических идеалов и тщетность претворения их в жизнь. Отсутствие у погибшего государства средств даже на жизненно необходимые нужды, на пропитание, вынудившее просить помощи у недавних, вечно проклинаемых коммунистами врагов, обнажило катастрофическую потерю народом сопротивляемости и силы.
Выше отмечалось, в 1917 году февральская революция произошла спонтанно, по воле измученных военными лишениями народных масс, и совершенно неожиданно для политических сил России, десятилетиями готовивших в стране революцию. Тем не менее, в результате февральской революции производственные отношения в стране, структура хозяйствования, система управления, права собственности, исключая землю, остались практически неизменными. Хозяйство страны продолжало функционировать как прежде – придавленное войной, но в целом исправное и жизнеспособное.
В октябре же 1917 года произведенный большевиками государственный переворот был не только политический, как ранее в феврале при смене монархии на республику. В октябре произошла замена структуры хозяйствования и «кормления» страны, имущественных и правовых отношений между гражданами, системы управления как в промышленном производстве, так позже и в аграрном секторе. К рычагам управления хозяйственным механизмом пришли люди в «кожанках» и с «наганами», не имевшие знаний и опыта, однако приступившие активно воплощать иллюзорные, никем и нигде непроверенные утопические планы построения «рая на земле». Хозяйство страны начало распадаться под их руками. В промышленности и на транспорте началась разруха, на селе началось сопротивление новым «порядкам», отказ продавать хлеб, сокращение посевных площадей. Кризис был преодолен в некоторой степени лишь через несколько лет при вынужденном возвращении к привычным «капиталистическим» отношениям НЭПа. Однако с последующей его отменой по идеологическим соображениям, страна вновь погрузилась в нехватку «всего и вся», не избежав нескольких лет жесточайшего голода в южных областях страны.
В 1991 году с Россией произошло нечто подобное политическому перевороту октября 1917 года, но только с обратным знаком. Действующей силой внезапных социальных перемен в России были снова отнюдь не народные массы, ведомые политическими силами, заслужившими у них авторитет. Переворот в России в 1991 году был осуществлен незначительной по численности коммунистической «номенклатурой», т.е. высшей партийной и административной элитой.
Народ, давно разуверившийся в коммунистических идеалах, видевший всюду расхождение «слов с делом», с началом «перестройки» с надеждой внимал речам Горбачева, веря, что с новой «революцией» в стране дела пойдут лучше. Но за несколько лет «перестройки» дела в стране пошли только хуже, очереди в магазинах только удлинились, введенный «хозрасчет» на предприятиях дал только больше возможностей воровать руководству, а «антиалкогольная» кампания убедила всех, что наверху оказались такие же «головотяпы», что и прежде. Тем не менее, народ оставался очень «смирен», не было ничего похожего на современные уличные беспорядки по малейшему поводу, как это происходит теперь во всем мире. Советская страна давно отвыкла от проявления политической инициативы снизу.
Поэтому с избранием президентом России Ельцина, с малопонятными для большинства обещаниями и призывами его команды к «свободе» и «демократии», народ вновь робко и с надеждой последовал за недавними коммунистами из ЦК, обернувшимися теперь революционерами. Народ за десятки лет привык, не рассуждая, слушаться коммунистической партии, какие бы неожиданные кульбиты не совершала ее «линия». Новые руководители снова звали за собой, но их слова звучали несколько свежее и честнее. Кроме того, это было вполне «законное» руководство, и занимало оно свои законные места – в Кремле и в здании ЦК на Старой площади. Люди, в душе и по привычкам по-прежнему “советские», были растеряны, но потянулись за ними – прочь от коммунистического прошлого.
Ельцину и его команде предстояло разворачивать социалистическую “телегу» в обратную сторону – назад к частной собственности на средства производства и земли, к частной инициативе, т.е. к капитализму, который их большевистские «старшие товарищи» искоренили 70 лет назад.
Ельцин взял курс на такую новую жизнь, как он и его команда понимали. Во внешней политике – к примирению с Западом. Он сразу удивил вчерашних непримиримых врагов своей готовностью в одностороннем порядке снять с прицелов на западные города наши ракеты с ядерными боезарядами. Он развернул широкую приватизацию государственных промышленных предприятий, пригласил с Запада консультантов по воссозданию фондовой биржи после 70 лет забвения.
Все это действовало на людей самым необыкновенным образом, вселяя в них неоправданные надежды. На митингах в поддержку действий властей можно было увидеть лозунг: «Капитализм, прости и спаси нас!».
В людей вселялось убежденность, что наши прошлые беды – следствие не только «оков» и идейных рогаток на пути, по которому вели «коммунисты», но также и искусственно разжигаемой ими враждебности с Западом. Люди, вслед за Ельциным и его командой были теперь убеждены, что сбросив шоры и путы коммунистической идеологии, показавшей свою несостоятельность, закончив, наконец, противостояние с мировым капитализмом по идеологическим причинам, Запад с радостью примет Россию в свои объятия, забудет прошлые обиды. Без враждебной коммунистической идеологии, грозившей 70 лет Западу мировой революцией, без хрущевских «Мы вас похороним!», «Сокрушим гидру мирового империализма!» или «Мы еще покажем американцам Кузькину мать!» не станет более причин для вражды, и Россия станет равноправным и любимым членом единой семьи западной цивилизации. Это казалось очень желанным и вполне реальным для замученного нехваткой «всего и вся» народа.
Но это было похоже на то, как русский народ, как этнос, скатившись в яму слабости и утраты сопротивляемости по вине ложной коммунистической догматики, теперь, оказавшись в кризисе, возжелал «всего лишь сытости» и «комфорта, как на Западе», страсть к которым давно разжигалось «вражескими голосами» западных радиостанций. Ему показалось, что все хорошее и важное само собой останется, и добавится только еще лучшее.
Это стало развилкой на пути народа, и он выбрал на десятилетие неверный путь. Иное направление развития, путь к обретению вновь государственной силы – как первоочередное – тогда вообще не рассматривалось, оно вызывало у всех только неприязнь. Ведь только-только позорно закончилась война в Афганистане, показавшая народу чего стоят и чем заканчиваются политические амбиции коммунистов. Армия и ее офицеры воспринимались теперь как опора ненавистного коммунистического режима. Военных в форме на улицах и в транспорте оскорбляли, никто не желал поступать в военные училища, авторитет армии и военной профессии упал вслед за коммунистическими идеалами. С другой же стороны, лидеры ведущих западных стран демонстрировали на публике исключительную доброжелательность и щедрость по отношению к стране, уступившей им в долголетнем противостоянии. Слабому и проигравшему – улыбки, сочувствие и гуманитарная помощь, – это очень цивилизованно. Такое вселяло надежду и веру в добрых и «бескорыстных» недавних врагов, не помнящих зла. Те же ощущали про себя восторг победы и готовили планы по разворачиванию вечного на этот раз «однополярного мира», их СМИ были полны презрительных насмешек над покоренным, страшным всем когда-то «медведем».
Но новые руководители России были столь же невежественны в делах переустройства страны на капиталистический лад, как и их предшественники – на социалистический. Ельцин намеренно собрал свою команду из молодых интеллигентов, не имевших ничего общего с управленцами коммунистической эпохи. То было правительство из амбициозных, энергичных «завлабов», как их в насмешку называли оппоненты, не имевших опыта управления не только государством, но даже предприятием.
Ельцин с самого начала подгонял их к реформам, делающим невозможным возврат к коммунистической системе. В частности, к ускоренной раздаче государственной собственности в частные руки. Опасность реванша Ельцин чувствовал очень остро. Она и подтвердилась через пару лет новым путчем, правительственным кризисом и «расстрелом» из танков здания парламента, где «заперлись» депутаты во главе с вице-президентом.
Сделать невозможным возврат в «социализм-коммунизм» Ельцин и его команда решили через немедленную приватизацию, т.е. бесплатную раздачу государственных предприятий в частные руки, что, по их мнению, сразу увеличило бы число сторонников «демократии». Решение верное: неискоренимый частнособственнический инстинкт не выпустит из рук доставшуюся даром собственность.
Приватизация была проведена в спешке столь неумело, бездарно, что «ваучеры», или паи, розданные населению, были скуплены за гроши верткими «бизнесменами». Промышленность великого государства, созданная несколькими поколениями народа с неимоверными трудностями и жертвами, в одночасье стала собственностью «олигархов», «красных директоров», людей вороватых и некомпетентных в рыночной экономике, а также недавних коммунистических «секретарей» из распущенных райкомов и обкомов.
Разумеется, приватизация была необходима – лишь в частных руках промышленность и сельское хозяйство могли восстановиться и окрепнуть после разрухи «социализма». Но успеха в этом можно было достигнуть только после первоочередного восстановления Силы, сопротивляемости народа, как этноса, и могущества его государства. Ради этого 70 лет назад перековывали страну большевики, и достигли этой цели – кровью, страданиями миллионов, но после десятилетий перенапряжения и репрессий обрели силу и могущество, равные которым не было на земле. Напрасно? Но тогда бы вы не читали этих строк, и я бы их не написал, как и не было бы теперь России, ни той, «которую мы потеряли», ни любой иной жизнеспособной. История бы шла, конечно, своим чередом, но без ослабшего в 1917 году русского народа. Как продолжалась история и после гибели великих цивилизаций – Египта, Греции, Рима. Желать другой судьбы, это как желать, чтобы у вас были другие дедушка или бабушка.
Все меры либерального правительства Ельцина осуществлялись под «чутким руководством» западных советников и консультантов. Целью было скорейшее установление «рыночной экономики» для блага, прежде всего, частных лиц, – ведь демократия! – а не государства в целом. Государство же, напротив, западные советники стремились как можно более ослабить. Обернулось все это вскоре тяжелейшей «шоковой терапией» и обнищанием народа.
Почти половина государственных предприятий входило тогда в ВПК, производило, в основном, вооружение. Теперь их продукция не только не была востребована «на рынке», но эти предприятия, по настоянию западных советников, подлежали закрытию, к продаже за гроши или должны были пойти на слом. На перепрофилирование ВПК денег не было, как не было их и у покупателей отечественной продукции. В результате предприятия закрывались, миллионы людей лишались работы. В городах закрывались не только «нерентабельные» предприятия со всей «социалкой» – яслями, детсадами, домами отдыха, но и разнообразные НИИ, в большинстве не приносившие научной пользы, но обеспечивавшие занятость и сносные заплаты своим «сидельцам».
Из-за чудовищной инфляции, достигавшей порой 2000% в год, из-за неумения хозяйствовать в условиях рынка, страну охватила эпидемия взаимных неплатежей между предприятиями. Предприятия перестали выплачивать работникам зарплаты. Долги работникам растягивались на полгода и более, люди принудительно отправлялись в неоплачиваемые отпуска. В лучшем случае с работниками расплачивались собственной продукцией. По автодорогам и на рынках можно было увидеть распродажи работниками своих чайников, посуды, носков и т.д. Бюджетные организации также задерживали с выплатой зарплаты или сокращали ее до предела.
Полунищие, растерянные и раздраженные, люди хватались за любую возможность что-то заработать. «Челночники» – современные мешочники, – возившие дешевые «тряпки» из Турции, становились завидной, но и опасной – из-за рэкета, – профессией. Более доступной и менее опасной была только торговля вещами на расплодившихся вещевых рынках, даже на стадионах, как в Лужниках.
Мошеннические «фирмы» приглашали на собрания «инвесторов» или «менеджеров сетевой торговли», где предлагали за начальный взнос примкнуть к «выгоднейшим» сделкам. На одном таком учредительном собрании очередного «лохотрона» побывал и автор этих строк – созванном, как оказалось, в доме культуры Бутырской тюрьмы!
На селе совхозы распались в несколько месяцев. Из-за неискоренимой убыточности совхозов, особенно в Нечерноземье, десятилетиями финансируемых за счет продаж изобильной в то время нефти, теперь у государства денег на них попросту не было. При их ликвидации сельхозтехника была роздана работникам, земля разделена на паи, и распределена между ними в виде «бумажек». Ни тогда, ни позже эти паи не стали настоящей землей в руках их владельцев, и все поля вскоре заросли лесом, как это можно увидеть в Новгородской области.
На приватизированных тракторах теперь ездили на рыбалку по «непроезжим» лесным дорогам, распахивали домашние огороды. Но из-за отсутствия запчастей и денег на них эта техника на селе вскоре встала. Народ кормился пенсиями старушек, мизерными, но исправно выплачиваемыми государством, огородом, да сбором грибов и ягод на сдачу в регулярно заезжающие в села автолавки, в обмен на продукты и водку.
Создавая «новую» Россию, Ельцин хотел как можно быстрее и дальше «оттащить» страну от коммунистической деспотии и авторитарности. Это благое намерение он спутал с добровольным уничтожением силы государства, с раздачей накопленных русским народом за столетия сил и земель. Но не только Ельцин и его команда, так полагало большинство людей, возбужденных происходящими переменами в стране. Им казалось, что имеется полное тождество между опостылевшей коммунистической властью и государственной силой, которую она представляла. Широко распространилось убеждение, поддерживаемое новой властью: разрушим государственную силу – разрушим коммунизм.
Вновь в российской истории недавние коммунисты, как их собратья большевики 1917 года, приняли иллюзию за руководство к действию. Упоминалось выше, что в 1922 году при утверждении Конституции СССР Ленин настоял, чтобы для всех республик было записано право добровольного выхода из Союза. Сталин был тогда категорически против этого и оказался прав: СССР рассыпался в 1991 году, растеряв за несколько дней половину населения и земель, оставив миллионы соотечественников, этнических русских, нищими и гонимыми за новыми рубежами.
Сила государства, его народа, всегда растет с его расширением, укрупнением и с централизацией, и, наоборот, падает и уменьшается с его дроблением и расчленением. Однако продолжая воевать с коммунистической силой, и в полном согласии с утопическими идеями ранних большевиков о свободе и равноправии народов, Ельцин бросил свой знаменитый призыв к республикам, входивших в РСФСР: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».
На этот призыв с радостью откликнулись многие национальные республики, вписав в свои конституции «ленинский» принцип самоопределения и равноправия. В результате там сразу началось националистическое брожение. Но некоторым кавказским республикам этого показалось недостаточно. Их желанием теперь стало полное отделение от России, объединение мусульманских народов и образование на Кавказе халифата.



