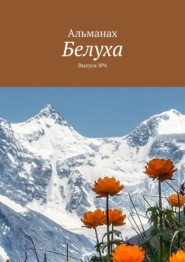скачать книгу бесплатно
Вынула Машенька денежки из кармана и положила их на стол перед почтальоном.
Насчитал почтальон 18 копеек, подумал минутку и сказал:
– Иди домой, деточка, отправлю я твоё письмо до города Москвы, а там как Бог даст.
Через полмесяца подъехала к дому Агафьи Еремеевны Чулденко большая чёрная машина. Вышли из неё люди в чёрном, зашли в дом Агафьи Еремеевны, окинули его бедное убранство строгим взглядом и один самый важный начальник – большой толстый человек громко проговорил: «Кто здесь Маша Чулденко?»
На печи что—то зашуршало, и с неё спустилась маленькая девочка.
– Я Маша, – сказала она, низко опустив голову.
– И сколько тебе лет девочка? – спросил её большой главный начальник.
– Восемь, – ответила Маша.
Гости переглянулись. Не могли поверить своим глазам. Худенькой, маленькой девочке, как только увидели её, мысленно дали не более четырёх лет.
– И кто же письмо написал, которое ты отправила в Москву товарищу Калинину? – спросил её второй начальник, тоже большой и упитанный человек.
– Я, – ещё ниже склонив голову, ответила Маша.
– Ты писать умеешь? – вновь обратился к ней главный начальник.
– Я в школу два года ходила, потом дома книжку читала.
– Вон оно, что… сама говоришь, это хорошо. А кто надоумил тебя письмо написать товарищу Калинину?
– Никто, дяденька, – всхлипнув, ответила Маша, – сама. Мамочка у печи ворону варила, а я писала.
– Ворону? – одновременно проговорили большие толстые начальники.
– Мама её нашла, она не убивала её, дядечки! Она не виноватая! Во дворе нашем ворона лежала, – испугано выпалила Маша, предполагая, что сказала лишнее, за которое можно понести наказание.
– Вот тебе листик бумаги, напиши—ка и нам письмо, – подойдя к столу и вынимая из портфеля белый в клеточку листок и карандаш, проговорил второй начальник.
Маша села на лавку, придвинула к себе листик, взяла в руку карандаш и посмотрела на начальника.
– Пиши. Здравствуй, дедушка… – начальник призадумался.
– Каверин, – подсказал главный начальник.
– Да, Каверин. Пишет тебе девочка Маша. Мы живём плохо…
Начальник смотрел, как Маша пишет, потом сказал:
– Хорошо, достаточно, – взял письмо и, внимательно рассмотрев его сказал. – Молодец, девочка. Теперь я точно знаю, что это ты написала письмо.
После этого начальники вышли из дома, сели в чёрную машину и уехали.
Агафья Еремеевна, подошла к дочери, села рядом с ней на скамью и тихо заплакала.
– Будь, что будет! Пусть будет так. Что мучиться! В лагерях—то оно могёт быть ещё и лутше. Там могёт быть кормют, а здеся, – утирая слёзы краешком узелка головного платка, – не жизть. День, два, может месяц, и помрём все.
Через неделю к дому Агафьи Еремеевны Чулденко подъехала грузовая машина. Вышел из неё мужчина в телогрейке, вошёл в дом и сходу сказал:
– Прочитал ваше письмо Михаил Иванович Калинин. Подарок вам прислал. Одевайся хозяйка, корову принимай. Мануфактуру кой—какую, валенки, и пальтишки всем. Будет теперь в чём в школу ходить… детям твоим, – сказал, а у самого слёзы на глазах.
P.S. Больше никто в семье Чулденко не умер. Мария Тимофеевна Чулденко, 1928 года рождения, в 1944 году была принята стрелком в военизированную охрану Ужурского участка железной дороги. Родила и воспитала четверых детей – Людмилу, Татьяну, Галину, Сергея. О судьбе брата Агафьи – священнослужителя, ничего не известно.
Платье для Любочки
Пятилетняя Верочка очень любила свою единственную куклу Любочку, но маму больше всех на свете, и хотя она видела её лишь по вечерам и в воскресенье (мама уходила на работу, когда Верочка ещё спала), первые слова, произносимые Верочкой по утрам, были только: «Мамочка! Милая мамочка, я люблю тебя!»
– Мамочка, я люблю тебя! – открыв фиалковые глазки, с улыбкой говорила она, затем крепко прижимала к своей груди лежащую рядом на одной подушке куклу Любочку, откидывала одеяло и опускала на пол тонкие ножки.
Заправив кровать и умывшись из висящего на гвозде рукомойника, Вера подходила к окну, улыбалась солнцу, здоровалась с воробьями, копошащимися в пыли, затем садилась за стол.
Заботливыми руками мамы льняным полотенцем были накрыты стакан молока и несколько ломтиков сайки. Наскоро приняв этот немудрёный завтрак, Верочка подходила к своей кроватке, брала на руки куклу Любочку и, разговаривая с ней, начинала игру.
– Сейчас я сошью тебе новое платьице, и мы пойдём с тобой гулять! – каждое утро говорила она своей любимице и приступала к работе.
Да простит меня читатель за краткое отступление, следующее ниже этой строки, но с ним будет проще понять время и события, о которых хочу рассказать.
Верочка жила с мамой в посёлке Ильича, растянувшемся узкой лентой в одну улицу от железнодорожного моста, – справа; до дома бакенщика, стоящего особняком на высоком холме и зорко смотрящего на могучую Обь, – слева. Посёлок Ильича, – официальное название окраинного населённого пункта города Барнаула, народ же его называл просто – Кожзавод, это потому что в 1918 году на его левой окраине вырос кожевенный завод, но главная причина, по которой народ редко упоминал Ленина, вероятно, заключалась в другом. Стыдились жители посёлка называть свой угрюмый населённый пункт именем великого вождя, очень уж беден он был, мрачен и сер, – покосившиеся хибары, прогнившие заборы, толстая едкая пыль в засуху и непролазная глубокая жирная грязь в сезон дождей по всему полотну дороги, по которой, нередко падая, могли передвигаться только люди. Конечно, шли машины и лошади тянущие гружённые чем—то телеги, они и взбивали грязь дороги в липкую студенистую массу, но даже этот гужевой и моторизированный транспорт часто крепко прилипал к колее на час и более. И так по всей ленте единственной улицы, названной тоже в честь Ильича – Ленинской. Лишь в центре посёлка с бараками, на которые зорко смотрел с высокого постамента И. В. Сталин, по—хозяйски укоренившийся на центральной и единственной площади посёлка, были проложены пешеходные деревянные мостки, дорога же из конца в конец утопала в пыли или грязи, в которую даже нерадивый хозяин не выпускал собаку. Не поворачивается язык сказать «чисто» и о центральной площади, но относительно того далёкого времени, в которое я мысленно переношусь этими строками, она смотрелась довольно—таки опрятно. Очевидно, это оттого что редкий человек заходил на неё, значит, и не месил своим сапожищами грязь и не поднимал пыль. Что останавливало жителей посёлка перед той площадью? Что заставляло их обходить её стороной? Давящая атмосфера, исходящая от памятника И. В. Сталину! Даже бревенчатый клуб, уныло смотрящий серыми стенами на спину белого гранитного гиганта, казался каким—то придавленным и прокажённым. Гранитный Сталин был здесь владыкой. Памятник, от слова память! Жил человек, свершил великое дело, – достоин памяти потомков! Но он—то ещё жив, – вождь всех народов! Зачем ему памятник, почему его портрет украшает фасад заводского клуба?
И всё же клуб, был радостью для мужиков (в буфете по праздникам было пиво), и единственной отдушиной для молодёжи и молодых вдов (по воскресеньям были танцы под духовой оркестр).
Кроме этого культурного центра, – клуба; площадь окольцовывали школа, почта, баня, маленький базар в пять столов и магазин, у двери которого на серой доске с колёсиками сидел безногий мужчина с двумя рядами орденов и медалей на груди.
Сер и непригляден был посёлок, но жители его дорожили им. Там, – за косогором, на посёлке «Восточный» эвакуированные жили намного хуже. Жилищем им служили не хибары и не бараки, а землянки с дощатыми односкатными крышами, возвышающимися над землёй не более чем на метр – полтора.
Мрачное время, если смотреть на него с высоты сегодняшнего дня; и светлые дни, если видеть их глазами тех, кто перенёс войну, кто вошёл в первый год мирной жизни.
Жили трудно, тяжело, но на лицах людей не было гнетущей хмурости и зависти, они светились радостью жизни. Да и почему бы не радоваться им? Победа!!! Это главное! Но не менее важными был завод и река! Завод давал работу, а заречные луга и лес сено для скота и ягоды. Река делилась своими дарами, – стерлядью и осётрами, щукой и килограммовыми окунями и, конечно, разнообразной рыбной мелочью, из которой готовилась настоящая сибирская уха.
Счастливо жили! Лишь у одного человека в посёлке всегда был скорбный вид. Это была женщина, которая несла в себе боль войны. Сторонилась она людей, была замкнута в своём мирке, но ведомом всем старожилам и эвакуированным. Забрала у неё война любимого мужа и двоих детей. Редко выходила она из своего перекосившегося домика, огороженного сгнившим забором, но когда шла в магазин, да по неотложным делам, то каждому мальчику или девочке, встречающимся на пути, предлагала конфеты, а они от неё бежали что было мочи, – боялись. Её тёмное одеяние пугало их. Лишь одну Верочку не пугали чёрный платок и чёрное платье Дуни. Безбоязненно подходила она к ней, ласково смотрела своими голубыми глазами в её глаза и что—то тихо говорила. Дуня гладила её по головке, называла Лялечкой, угощала конфетами, затем, прощаясь, крестила Верочку и медленно продолжала свой путь. Верочка долго смотрела ей вслед, махала маленькой ручкой, потом, вздыхая, возвращалась к своим важным играм—делам.
Посёлок. Своим фасадом он смотрел на луга, при разливе Оби заливаемые водой. В его затылок упирался косогор, поросший боярышником, искривлёнными берёзами, подтачиваемыми родниками, и густой крапивой, более злой, нежели сам чёрт. Верочка боялась крапивы, очень сильно она жалила, но Верочка очень сильно любила и ягодки боярышника. Своими рубиновыми каплями они постоянно манили её к себе. И Вера, превозмогая боль от укусов крапивы, по узкой тропе взбиралась по косогору к густому кусту боярышника и наслаждалась сладкой мякотью его крупных ягод. А ещё на косогоре росла заячья капуста, маленькая, – меньше Верочкина кулачка. Мальчики рвали ту капусту и ели, Верочка видела это, но сама никогда даже не пробовала её зелёных листков. Красные ягоды боярышника, аромат которых приятно щекотал её ноздри, казались ей вкуснее какой—то капусты и даже слаще конфет «Золотой улей» в красивой жёлтой обёртке с нарисованными сотами. Наслаждаясь, Вера слышала как изредка, чуть выше проезжала машина. Там был взвоз, по которому шли гружённые кожей телеги и что—то везли в своих кузовах редкие грузовые автомобили. Утром по этому взвозу шёл на работу поселковый люд и автобус. Шли те, кто работал на деревообрабатывающем заводе и 17—м, военном, называемом станкостроительным. Эти заводы были относительно недалеко, а в автобусах ехали те, кто работал в городе.
Верочкина мама работала в городе и каждое утро она уезжала на работу в первом автобусе. Верочка оставалась дома одна, ни бабушки, ни дедушки у неё не было, а своего папу она не знала, ни разу не слышала его голос, но она знала, что он самый хороший папа на всём белом свете, потому что у него очень добрые глаза. Эти глаза ласково смотрели на неё с маленькой фотографии, аккуратно вправленной в рамочку стоящую на комоде рядом с настольным зеркалом с металлической скобкой ножкой на оборотной стороне его. Верочка часто видела маму, смотрящей на её папу. И каждый раз, с крупными слезами на глазах, мама что—то тихо говорила ему. О чём разговаривала мама с папой, Верочка не знала, лишь один раз она чётко услышала: «Будь проклята эта война!» Пять лет, всего пять лет было Верочке, но она прекрасно понимала смысл этого страшного слова, – война! Каждый раз, услышав его, Верочка сжималась в маленький комочек и замирала в ожидании чего—то ужасного со страшным лицом, страшнее, чем у грозного белого памятника стоящего на площади рядом с клубом.
Не было у Верочки ни бабушек и ни дедушек, некому было её приласкать, некому было с ней даже поговорить.
Барак, в одной из комнаток которого жила Верочка с мамой, оживал лишь поздно вечером, когда его жильцы возвращались с работы, но им не было никакого дела до маленькой девочки, у всех были свои заботы и дела.
До прихода мамы с работы у Верочки была единственная радость, – её милая подружка Любочка, мирно лежащая сейчас на маминой кровати!
– Я буду носить тебя на ручках, буду кружить на цветочной полянке! Все бабочки и стрекозки будут смотреть на тебя и с завистью говорить: «Ах, какая красивая у Веры – Любочка! Ах, какое красивое сегодня на ней платьице!» – а я им скажу, что сама сшила его для тебя! – Вот только лоскуточков у меня мало, ну, да, ничего! Я сошью тебе сарафанчик! Ты пока полежи, Любочка, здесь, – на кроватке, а я пойду, принесу коробочку, ту, которую мамочка, моя милая мамочка, подарила мне на день рождения! Ты помнишь, я показывала её тебе! Ах, как вкусно она пахнет! Мамочка говорила, что в ней были очень дорогие духи «Красная Москва», их папа ей подарил. Я не знаю, где та настоящая «Красная Москва», но она, наверно, очень красивая, если так очень вкусно пахнет. А один раз, Любочка, я её видела! Она такая… такая… знаешь… вся хрустальная, как башенка! Нет, что ты, Любочка, – погладив по головке куклу, – у завода башня круглая и чёрная, а та… как льдинки на реке! Сияет, переливается на солнышке, как прозрачный камешек, когда смотришь сквозь него на солнце! Ой, и чё это я с тобой заговорилась! Нам скоро гулять с тобой, а сарафанчик ещё не готов! Ну, я пошла… за коробочкой.
Через минуту, крепко прижав к груди своё сокровище, – красную коробочку с лоскуточками, камешками и разноцветными фантиками, Верочка стояла возле маминой кровати и задумчиво смотрела на свою единственную куклу. Мысленно она видела её в кружевном белом платье, но… Глубоко вздохнув, Верочка осторожно отняла руки с коробочкой от груди и положила свою драгоценную ношу рядом с куклой.
Открыв коробочку, Верочка с нежностью посмотрела большими голубыми глазами, опушёнными густыми ресницами, на её содержимое, вновь глубоко и тяжело, как женщина, придавленная вечными заботами о семье, вздохнула и стала медленно перебирать маленькие ситцевые лоскуточки в надежде, что в глубине её может быть спрятался белый лоскуток ткани, не замеченный ранее. Белых кружевных тряпиц в коробочке не было. Верочка ещё раз тяжело вздохнула, взяла ножницы и после напряжённой работы выкроила заготовку для юбочки. Через час новый сарафанчик украшал тоненькое тельце Любочки.
Летние дни с рыжим солнцем на голубом небе в этот год давно не видели дождя. Зелёная трава, взросшая весной буйной густой лентой вдоль заборов, пожухла и потеряла свой блеск. Даже лопухи, в благоприятные времена выраставшие почти в Верочкин рост, в эти знойные летние дни скукожились и скрутились в жгуты.
Посёлок тих, ни ветерка. Лишь изредка, взбивая клубы пыли, пройдёт по грунтовой дороге, понурив голову, старая лошадка, тянущая скрипучую телегу с древним ездоком.
Верочка стояла на крыльце, – у раскрытой двери, ведущей в тёмный зев барачного коридора, и широко раскрытыми глазами смотрела на незнакомого мальчика—ровесника, мастерящего перочинным ножом кораблик из толстой сосновой коры.
– А лужу ты нигде не найдёшь, – подойдя к нему проговорила Верочка, и присела рядом.
– Мне и не надо никакой лужи! – не отрываясь от занятия и даже не взглянув на собеседницу, буркнул он. – Меня папа в воскресенье на рыбалку возьмёт, а на реке знашь скоко воды.. уйма!
– Дак, то на реке—е—е!
– Реке—е—е! – передразнил Верочку мальчик, и приподнял голову. – А чё эт у тебя?
– Любочка! Я ей сегодня новый сарафанчик сшила!
– Фу, ну и сарафанчик! Серый, как пыль на дороге! И вся она у тебя какая—то… дранная, твоя кукла!
– Сам ты.. сам!.. – вскрикнула Верочка, резко поднялась и побежала к тёмному зеву коридора, поглощавшему мрачные двери мизерных комнат барака.
Дома, сидя на маминой кровати, Верочка с болью смотрела на свою любимую куклу. Она не обижалась на мальчика, более того, ей было даже стыдно за его грубость, но сильнее всего её терзало собственное бессилие, – она не могла сшить Любочке белое кружевное платьице. Не могла нарядить её к маминому дню рожденья!
– В сентябре у мамы день рожденья, а ты у меня, Любочка, и правда какая—то ненарядная! – глядя на куклу, проговорила она, и руки сами потянулись к ножницам.
И вот Верочка уже стоит рядом с маминым сундуком. Миг, и маленький белый кусочек от кружевной маминой кофты в её руках.
В воскресенье в клубе были танцы под духовой оркестр.
Верочкина мама, с тех пор как муж ушёл на фронт и погиб там, ни разу не была на танцах, но сегодня такие же, как и она, молодые вдовы уговорили её пойти в клуб и хотя бы на время забыть своё горе.
– Пожалуй, пойду! – уже в двадцатый раз, а может быть и более, твердила она, стоя перед зеркалом и снимая папильотки с пышных русых волос. – Пойду! Что со мной сделается!
Верочка смотрела на мать и радовалась её хорошим настроением.
– Мамочка, ты у меня сегодня очень красивая! – глядя, как мать укладывает пряди волос, проговорила Верочка и, приблизившись к ней, обхватила её ноги руками и уткнулась личиком в пахнущее сладким ароматом платье.
– Только сегодня? – с улыбкой спросила её мать.
– Всегда! Ты у меня всегда красивая, самая красивая и добрая мамочка на всём свете.
– А ты побудешь дома одна? Я не долго! Только схожу в клуб, побуду там минутку и вернусь.
– А я пока с Любочкой поиграю!
– Вот и договорились! – ответила мать и, осторожно отстранив от себя дочь, направилась к сундуку.
– И куда это она запропастилась? – перебирая в сундуке немудрёный скарб, тихо шептала Верочкина мама. – Куда? А, вот она! – вытаскивая белую кружевную кофточку, – сейчас поглажу и буду как до войны, с Васечкой! – проговорила она и ахнула.
Верочка не видела обезумевший взгляд матери, застывший на кофте. Не видела, тихо напевая колыбельную своей Любочке, как мать разъярённой львицей надвигалась на неё.
– Это что? – раздался рык над головой Верочки.
Вздрогнув, Верочка повернулась к матери, и тотчас же, поняв причину её гнева, сжалась в маленький комочек.
– Что это, спрашиваю тебя? – потрясая кофтой перед лицом дочери, ревела мать.
– Мамочка, прости! Я совсем немножечко… платьице… для Любочки!
– Платьице?! Я тебе сейчас такое платьице покажу!.. – резко развернувшись, мать подбежала к комоду, вынула из него портновские ножницы и устремилась к дочери. – Я тебе покажу платьице! – вновь взревела она, занесла руку над головой и резко ударила ножницами по маленькой Вериной ручке.
– Мама, мамочка, не надо, не бей! Мне больно, я больше не буду! – вскричала Верочка, но мать, не слыша её, с остервенением наносила удары большими портновским ножницами по маленьким тоненьким ручкам дочери. Била долго и до тех пор, пока не обессилела сама. Верочка же давно уже молчала. Потеряв сознание от боли, она навзничь лежала на материной кровати, широко в стороны раскинув синеющие руки. Крупные рубиновые капли, как осыпающиеся с рябины спелые грозди, окрашивали покрывало.
К вечеру на город наплыли хмурые чёрные тучи и впервые, уже на исходе лета, грянула гроза, как предвестница страшных событий. С первыми раскатами грома на умирающую землю упали тугие струи дождя, взбив в грязную густую жижу дорожную пыль, и напоив живительным соком траву, но Верочка не слышала грозу, не видела её зловещих молний, она металась в жару и в бреду звала милую маму.
Утром Верочку увезли в заводскую больницу, а через день в хирургическое отделение городской больницы, где маленькой девочке ампутировали обе руки, которыми она шила красивые платьишки из маленьких ситцевых лоскутков для своей единственной куклы – Любочки.
Через две недели, – пятого сентября Верочку выписали из больницы.
Вечером того же дня в одной из комнат барака шёл тихий разговор.
– …бедная девочка!
– Несчастный ребёнок! Отец за неё жизнь отдал, а мать отняла!
– Пап! – вклинился в разговор родителей мальчик.
– Что, Вова?
– Ты… эт… не покупай мне удочку.
– Что так?
– Да… ты купишь не такую, как я хочу! Ты дай мне рубль, я сам куплю!
– Ну, что ж, пусть будет по—твоему, – ответил отец. – Завтра на столе возьмёшь… свой рубль.
Вечером следующего дня к Верочке пришёл соседский мальчик.
– Я Вова! – подойдя к кровати, на которой лежала Верочка, проговорил он и шмыгнул носом.
– Ты что, простыл? – улыбнулась Верочка.
– Не… эт… я так! Ты не боись, я не заразный!
– А я и не боюсь!