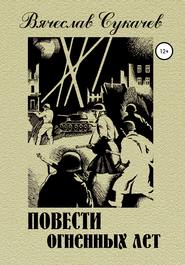скачать книгу бесплатно
Серафима обмерла, сердце у нее часто-часто застучало, в висках заломило и сразу захотелось пить.
К вагонам с красными крестами часто подходили грузовики, и молоденькие девчата в зеленых юбчонках и гимнастерках все носили и носили в вагоны из грузовиков какие-то белые коробки. За ними наблюдал толстый военный с большим мясистым носом и узкими быстрыми глазами. Серафима как глянула на него, так сразу и поняла, что это медицинское начальство и, если кто может сейчас решить ее судьбу, то только этот начальник.
– Товарищ фершал, – обратилась она к толстяку, – я к вам.
– Что?! – вытаращил тот рысьи свои глаза. – Как вы сказали?
Одна из девчонок, набравшая коробок из грузовика выше головы, оглянулась на громкий голос толстяка. Коробки качнулись и, если бы не Серафима, попадали на землю. Перехватив коробки и встав с ними перед толстяком, Серафима решительно и строго сказала:
– Не слышишь, что ли, к вам я, говорю. На поезд…
– Вас Конюхов направил?
– Никто меня не направлял, – сердито посмотрела Серафима на толстяка, – я сама себе направщица. Коробки-то куда несть, в вагон, что ли?
– Нести, – машинально поправил толстяк, как-то смешно поморщившись мясистым своим носом, – в вагон, разумеется. Но…
Серафима повернулась и, не дослушав толстяка, почти бегом бросилась к ступенькам.
– Ой, умру! – через час говорила круглолицая симпатичная Ольга, та самая, что чуть было не уронила коробки, – она ему, товарищ фершал, а Семен Николаевич-то наш опешил, глазенки вытаращил и как завопит: что?
Девчата смеялись. Вместе с ними смеялась и Серафима. Еще через час ее оформили санитаркой и отвели место в узком и тесном купе…
И поезд пошел по России. А и велика же она. Не то что глазом, мыслью разом не охватишь. День и ночь стучат колеса, за окном все горы великие да просторы шальные. Другой раз утонет взгляд в могучей долине, поезд уже сотни верст пробежал, а взгляд все еще там, в той долине, ищет чего-то и не находит, и оторваться не решается.
Больше месяца добирался эшелон к фронту, и за это время Серафима вполне освоилась, привыкла к новым людям, и они к ней привыкли. По вечерам начальник санитарного эшелона, тот самый толстяк, Семен Николаевич, проводил занятия, и Серафима старательным крупным почерком писала в зеленую тетрадку длинные, трудные даже на слух слова.
– Лукьянова, – строго говорил Семен Николаевич, на котором и через месяц форма сидела смешно и нескладно, – а как мы будем производить перевязку предплечья?
Серафима смущалась, путала слова, но отвечала в общем-то верно.
– Хорошо, Лукьянова, – кивал мясистым носом Семен Николаевич, – ну а как ты поступишь, если будет… будет, к примеру, пулевое ранение в области живота?
– Ну, первым делом, остановить кровь…
– Как ты ее остановишь?
– Ну…
– Не нукай, Серафима, – сердился Семен Николаевич, – сколько раз тебе говорить… Ну и как же?
– А вы?
– Что я?!
– Чего нукаете?
– Гм…
Девчата хохотали. Семен Николаевич хмурился, но видно было, что и он едва удерживается от смеха.
– Возьми шприц, Лукьянова. Взяла? Как мы будем делать укол в фронтовых условиях?
А поезд все бежал и бежал вперед и остановился лишь в небольшом подмосковном городке – Подольске. И едва паровоз завел эшелон на запасной путь, как поступила первая партия раненых. Первая – для эшелона. Первая – для Серафимы. Для страны – уже давно очередная.
Как-то в госпиталь поступила девушка-санинструктор. Ее звали Леной, и ранена она была осколком снаряда в правое бедро. Пока делали операцию, эта хрупкая, интеллигентного вида девушка, с мягким красивым ртом, страшно и много ругалась в беспамятстве. Серафима никак не могла поверить, что ругательства принадлежат именно этой девушке, и растерянно оглядывалась кругом. И странное дело, именно к Лене прониклась Серафима любовью и самым большим уважением, на которое была способна в те первые дни.
Через несколько дней Лену увезли дальше в тыл.
– Говори смело и гляди в глаза, – строго учила Лена внимательно слушавшую Серафиму. – Если спросят, поройся для вида в карманах и сделай вид, что потеряла… Впрочем, сейчас там не до предписаний. Ребятам обо мне сразу не говори. Если Боголюбов жив, держись его. И не трусь! Фашисты сволочи, и поэтому все равно все подохнут! Все! Все! До единого!
Лену увезли, а на другой день ушла из поезда Серафима, чтобы сменить ее.
Многого она тогда не знала. Не знала, что за два дня до ее ухода началась немецкая операция «Тайфун». С далеких рубежей, от Рославля, Белого, Смоленска, Калинина, Вязьмы, двинулись фашистские дивизии на штурм Москвы. Фашисты спешили ещё до зимних морозов красиво промаршировать по Красной площади… Серафима этого не знала, как не знала и того, что от противотанковой батареи, куда она отправилась заменить Лену, осталось лишь два орудия, командовал которыми вместо погибшего командира Петелина старший сержант Никита Боголюбов.
Глава седьмая
Утром чуть свет пришла Мотька Лукина. Никита еще спал, тяжело разметавшись на стареньком диване. Серафима же растопила печурку на летней кухне и готовила завтрак.
– Сима, слышь, Сима, – часто затараторила Мотька, забыв поздороваться и испуганно кругля плутоватые глаза, – Матвей, слышь, помер.
– Ну?
– Как ну, – рассердилась Мотька, – еще вчера в больнице скончался. Во дворе у Варьки вой стоит. Уже и из города на «Ракете» кто-то прикатил.
Серафима молча чистила картошку.
– Ты чё это такая каменная? – удивилась Мотька, растерянно присаживаясь на табуретку и поправляя на плечах лямки сарафана. – Поди Матвей скончался, не кто-нибудь.
– Я вчера вечером в больницу звонила, мне и сказали, – Серафима отложила нож и выпрямилась уставшей спиной, – а из города Ольга приехала, я ее давеча на дебаркадере видела. Так что удивить меня ты припозднилась, Мотя, да и надивлённая я за свою жизнь досыта.
– Кто приехал-то? – сменив разговор, деловито спросила Мотька.
– Однополчанин. Вместе воевали. Никита Боголюбов.
– Ишь ты, фамилия какая религиозная.
– А к тебе Осип не заходил?
– Нет. Дома сидит. Я мимо пробегала, так он во дворе с подвесным мотором возился. Рыбалить, наверное, собрался. А чё, спит он еще, что ли?
– Спит, – улыбнулась Серафима, – вчера выпили маленько, да еще с дороги человек.
– Может, похмелку принести? – заёрзала Мотька, – у меня ноне наливка знатная получилась, так я бы мигом…
– Ты вот что, Мотя, – Серафима закурила, – к нему не приставай. У нас своих мужиков много, а он человек семейный, самостоятельный. Так что учти.
– Скажешь тоже, – поджала губы Мотька.
– Да уж скажу.
– Больно надо.
– Сколь за наливку возьмешь?
– Ох, Сима, не знала бы я тебя, так в глаза наплювала, – разозлилась Мотька, – мне что, деньги твои нужны? Фронтовой товарищ приехал, разве я не понимаю, а ты вчера Осипу трёшку дала, да в магазине две бутылки водки купила. Это одиннадцать рублей получается. Где же ты этих рублей наберешься, если еще и сегодня в магазин бежать? А там поминки. Небось, будешь справлять?
– Посмотрю.
– Вот твой оклад и полетит в три дня.
– Да и черт с ним!
– Не ска-ажи, – Мотька усмехнулась, – есть, пить-то каждому надо.
Так они говорили, и жарилась на плите картошка, румянцем берясь по бокам, и солнце мягко всходило над сопками, и Матвей впервые не видел его.
В первые дни Серафима редко вспоминала дом. Не до этого было. А потом вдруг случилось затишье, наша и ихняя стороны примолкли, затаились, и Серафима обрадовалась этой тишине, еще не зная, что нет ничего хуже фронтовой тишины. Что именно в это время замышляются самые коварные планы, подтягиваются свежие силы, боеприпасы, танки, артиллерия, авиация, и все это для того, чтобы сокрушительнее ударить по человеку в тот момент, когда он расслабился чуток, дом вспомнил, отошел от войны и мирной жизни до стона испить захотел. Но Серафима не знала всего этого и, устроившись в маленьком, но удобном окопчике, устало прикрыла глаза, вздохнула и… оказалась дома…
Густо и пышно взошла зелень на молодых осинках, в высоком прозрачном небе ни облачка, а над Амуром, прошивая синь воздуха, тянули на север косяки уток. Раннее утро, над Покровкой встают голубые дымы, и тянутся к небу, и растворяются в нем, а по двору бежит босоногая девочка. Серафима сидит на теплом от солнца крыльце, чистит большого сазана и смотрит на свою дочь. А Оленька вдруг встала посреди двора, насупилась, белесые волосики на лоб упали, а потом вдруг протянула к матери пухленькие ручонки, восторженно засмеялась и бросилась бежать к ней, мелко и часто переступая ножонками. У самого крыльца споткнулась, упала, хотела опять засмеяться, но тут почувствовала боль и расплакалась. Серафима подхватила Олю, и дочерина боль перешла к ней, заполнила до отказа, так что грудь спёрло и перехватило дыхание, и крупные слезы выступили на глазах.
Потом она жарила сазана в сметане, а Матвей сидел рядом и рассказывал, как этот отъевшийся черт сошел было с крючка на мелководье, а он бросился к нему и придавил животом, и сазан несколько раз подбросил его, как подбрасывает мужика молодой необъезженный конь. На коленях у Матвея сидела дочь и внимательно слушала, будто что-то понимала в этом. Серафима не выдержала и поцеловала их обоих, вначале Ольгу, потом Матвея, и Матвей вдруг вспыхнул от этой нечаянной ласки, растерялся и от растерянности буркнул привычно:
– Ну, балуй при ребёнке-то.
А потом, когда крупные поджаристые ломти сазана лежали уже в чашке, накрытые полотенцем, а Оля заигралась во дворе, наряжая самодельную куклу, Матвей обнял ее сзади, поцеловал в шею и тихо прошептал:
– Слышь, Сим, я этого поцелуя в жизнь не забуду. Ведь в первый раз этак-то, от сердца.
И она испуганно поразилась проницательности Матвея, и пожалела его, и ничего не сказала на его слова – говорить было нечего.
И еще один день пришел на память Серафиме. Уже после ночного разговора и после того, как ударил ее Матвей, был этот день. Оля спала. Серафима что-то шила, то и дело забывая про иголку и уходя мыслями в себя. Пришел на обед Матвей, и по тому, как он долго топтался на крыльце, сердито и громко прикрикивал на Пальму, Серафима догадалась, что Матвей пришёл выпивши и хочет с нею говорить. Она не испугалась и не удивилась, лишь затосковала сердцем и, отложив шитье, начала накрывать на стол.
Матвей ел мало и неохотно, пристально, словно впервые, приглядываясь к ней. А потом сразу, толком не прожевав, сердито спросил:
– Значит, пойдешь?
– Пойду, Матвей, – как можно спокойнее ответила она.
Матвей помолчал, тяжело уставившись на нее из-под белесых ресниц. Его нижняя толстая губа обиженно оттопырилась.
– Меня защищать? Спасибо, дорогая женушка, спасибо. Выручила. Только вот чего я тебе скажу, Серафима: как пойдешь, так больше в дом и не вертайся. Не будет у тебя дома, меня не будет и дочери не будет. Ты вот это запомни и еще раз подумай, помозгуй маленько, раз такая умная выискалась.
– Почему же, Матвей, ничего у меня не будет? – тихо спросила она. – Я ведь не на гулянье прошусь. Война идет. Немец, слышь, к Москве подбирается. И мне сидеть здесь, тебя утешать – невмоготу.
– Я вот и чувствую, что ты солдат собралась утешать…
Серафима побледнела. До боли стыдно ей стало от Матвеевых слов, но она сдержалась, пересилила себя и спокойно ответила:
– Ты чего замечал за мной, Матвей? В девках или когда с тобой жила? Чего молчишь-то, скажи? Я, если тебе изменю, Матвей, я сама уже в дом не вернусь. И ты меня не стращай. Незачем. Плохо ты ещё меня знаешь, если такие пакостные мысли обо мне у тебя в голове сидят…
Матвей слушал и хмурился, и крутил одну самокрутку за другой, и она чувствовала, что слова ее доходят до него, не сразу, но доходят. Ничего не ответив, он резко поднялся с табуретки, и по тому, как вышел из дома, крепко пристукнув дверью, и как побагровела его сильная короткая шея, Серафима поняла, что нет, не отпустит ее Матвей по-хорошему, и думать нечего, убьет, но не пустит. И, глядя ему в спину, она вдруг ощутила легкий холодок решимости, почувствовав уже наперед, что обязательно уйдет на фронт, теперь – любыми путями уйдет…
Серафима очнулась, открыла глаза. По линии фронта всё еще стояла тишина. И впервые вдруг стало тревожно ей, и сразу же заломило виски, заложило уши, гулко, больно заколотилось сердце. Она выглянула из окопчика и удивилась, когда вместо орудий увидела брошенную траншею, пустые снарядные ящики и чей-то забытый котелок. Серафима растерялась, беспомощно оглядываясь кругом, и в это время увидела бегущего к ней Никиту Боголюбова. Еще издали он делал ей какие-то знаки рукой, и лицо его было непривычно сердитым.
– Ты чё, девка, – свалился в окоп Никита, – жить надоело?
– А что? – растерялась она.
– Ядрёна шишка, она еще спрашивает, – вытаращил глаза Никита, – да ты посмотри, не сюда, а вот сюда посмотри. Вот, вот, посмотри.
– Мамочки, – прошептала Серафима и невольно сжалась под шинелью.
По всему полю, куда только хватало глаз, ровными порядками, через равные интервалы, шли немецкие танки. Земляные фонтаны взрывов вставали между ними, но очень редко и неточно, и танки, казалось, совершенно не обращали на них внимания.
– Ну, бежим! – дернул ее за руку Никита. – Сейчас тебе еще лейтенант всыплет.
Но лейтенанту Пухову было не до неё. В самый последний момент, переместив батарею на левый фланг, он теперь с холодным любопытством ожидал, куда пойдут танки врага. Если к лесочку, в сторону старой колхозной риги, – его маневр можно будет считать удавшимся, так как танки пойдут мимо его сорокапяток боком, и тут еще бабушка надвое сказала – кто кого. Если же повернут на север и ударят в лоб батарее… Что ж, и тогда воевать надо будет. И он вначале в бинокль, а потом и просто так, пристально следил за танками.
Лейтенанту Пухову перед войной исполнилось двадцать пять. То, что в мирное время он осваивал и постигал пять лет, но так и не сумел постигнуть окончательно, совершенно отчетливо усвоилось им за два месяца войны. За два месяца он самостоятельно обучился хитрости по отношению к врагу, он сумел быстро забыть правила учения и еще быстрее усвоить правила войны. И он, лейтенант Пухов, стал хорошим командиром противотанковой батареи, еще не сознавая этого.
Танки пошли к риге, где редко залегла голодная пехота, ощетинившись штыками и бутылками с горючей смесью. Не зная положения фронта в целом, лейтенант Пухов, поджарый, симпатичный курянин, решился драться до конца и положить здесь голову, но не уйти с позиций.
– Твое место вот здесь! – наставлял Никита смущенную Серафиму. – Сиди здесь и не высовывайся. Когда будет надо, я тебя кликну.
– Мне бы винтовку, – робко попросила Серафима.
– Ну? – удивился Никита. – Не дам. Побьешь все танки, а нам чего делать? Ты лучше вот что запомни, здесь, впереди тебя, первое и второе орудие, а там вон – за лесочком – третье и четвертое. Если что… случится, дуй туда. Уяснила?
– Уяснила…
Никита ушел к своему расчету, и она осталась одна, и хоть стояли орудия метрах в двадцати от нее, Серафима вдруг почувствовала себя одинокой и брошенной всеми. Потом земля качнулась, дрогнула, словно бы приподнялась под ее ногами и ушла в сторону, и снова возвратилась на место, и с этой минуты Серафима начала какую-то новую жизнь, в которой значение имели лишь память и рассудок. Пересиливая неожиданно острое, еще мало ведомое ей чувство страха, после каждого взрыва она высовывалась из окопчика, боясь не услышать, когда ее позовут. Пыль и копоть стояли над землей. Она с трудом различала орудия впереди себя и лишь по ярким вспышкам определяла, что первый и второй расчеты ведут огонь по немцам. Сколько прошло времени – она не смогла бы сказать, но вдруг ясно, с какой-то удивительной твердостью поняла, что ей сейчас надо быть там, возле орудий, Никиты и Пухова.
Выбравшись из окопчика, она вжалась в землю, как вжимается в нее под артобстрелом всякий, даже не обученный этому специально человек, и быстро поползла вперед. Остальные события этого дня как-то спутались и смешались в ее голове. Забыв про взрывы, не обращая на них больше внимания, она подносила снаряды, помогала разворачивать орудие, всей своей силой, злостью и упрямством упираясь в теплый щит, видела лишь эту, ставшую близкой и понятной, пушку и совершенно не смотрела на поле боя. Что-то непонятное удерживало ее от этого.
Когда осколком в висок убило заряжающего первого орудия Ваню Лапшина, она встала на его место. И она уже знала, что и как ей надо делать, и делала это быстро, точно и уверенно. Где-то среди разрывов, грохота и стона снарядов, противного, заунывного воя авиабомб, она поймала неожиданно удивленный и вопросительный взгляд Пухова. Он словно бы впервые увидел ее и теперь хотел знать, как и почему она оказалась здесь. И с этой минуты вся ее жизнь, смысл этой жизни и суть ее приобрели какое-то новое значение…
Бой закончился вечером, и никто не знал, на чьей стороне осталась победа. Но что-то малодоступное разуму, неподдающееся ему, говорило солдату, что он был сегодня сильнее.
Среди боя, в отступлении и смерти, утопая в земле под гусеницами танков и растворяясь в воздухе от прямого попадания, русский солдат обрел вдруг то великое дыхание, которое довело его до Берлина. Еще впереди были стылые московские окопы, Синявинские болота, Охтинский плацдарм, еще лишь начинался голод в Ленинграде, а солдат уже почувствовал то удивительное единение и сплоченность, которые приходят к народу нашему в беде и лихолетье и не оставляют его до той поры, пока не вздохнет освобожденно и радостно сама земля русская. Еще лишь отливались пушки, из которых предстояло дать первые залпы наступления, еще и смутно не прорисовывался и не ожидался план окружения армии Паулюса, а русский солдат уже догадался и сердцем почуял – быть великим делам.
Бой закончился, и от тридцати человек батареи Пухова едва осталась половина. И тут же, под крохотным увальчиком, рыли могилы, склоняли головы и уходили солдатские сердца в землю, чтобы взойти когда-нибудь радостным детским смехом на этой же планете.
– Спасибо, боец Лукьянова, – сказал Пухов, устало и опять вопросительно глядя на неё.
– У вас, товарищ лейтенант, кровь на шее, – ответила она.
– Пустяки. От этого не умирают. Раненых много?