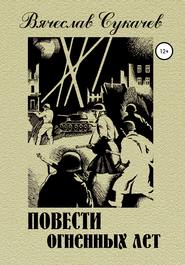скачать книгу бесплатно
– Помощь от колхоза, как одинокой фронтовичке. Вы заслужили…
– А люди думают, что за другое заслужила.
– Ну что вы! – Он опять покраснел, даже большие уши покраснели, склонился над столом и тихо сказал: – Я ведь всё это от чистого сердца.
– Я знаю, но только больше не надо, – и, уже поднимаясь, неожиданно для себя сказала: – Заходите в гости, раз интересуетесь моей жизнью. Вот и увидите, что я не хуже остальных живу.
Через два дня он и пришел. Вначале смущался и прятал это смущение за напускной строгостью, но она-то видела и понимала его, и жалела почему-то. А он все приходил и однажды остался, и она как-то спокойно согласилась с этим. Но когда увидела, что все заходит слишком далеко, что и сама уже скучает по нему, если он где задерживается, испугалась. Ночью сказала:
– Сережа, что-то надо делать.
– Что такое? – не понял он.
– Молод ты еще, Сережа. Я против тебя старуха.
– Тебе тридцать лет, Серафима, какая же ты старуха?
– Я не годами старуха, Сережа, а жизнью. Ты не поймешь.
– Нет, отчего же, пойму.
Ей было грустно, что он так легко собирается понять всю ее жизнь, когда она и сама её толком не понимает.
– Тебе, Сережа, хорошую девушку искать надо. А я баба, я истратилась уже вся до донышка и ничего такого, что в тебе есть, во мне давно нет.
– Что же делать, Серафима, если я без тебя не могу!
– Не знаю. Но что-то делать надо. А врать я не умею, Сережа.
Жизнь, как всегда, распорядилась по своему усмотрению, и Сережа, Сергей Иванович, уехал на пять лет учиться. К тому времени колхозы уже оправились после войны, подросли ребята, да и управлять хозяйством было кому, вот Сергея Ивановича и отпустили на учебу. И хоть клялся и божился он, что непременно вернется – не вернулся. Но письма присылал ей долго, звал к себе, сам грозился приехать. Она запретила.
…А дождь все лил, и сквозь эту морось начал проступать мглистый рассвет. Вначале побелела и выделилась из тьмы та стенка, что была напротив окон, потом уже можно было разглядеть потолочные доски и черную тяжелую матицу.
Никита спал без просыпа, видимо, все-таки уработался за день, да и годы уже не те. Как ни бодрись, а все чаще приходит какая-то беспричинная усталость, растекается по телу, вяжет мысли, и в такие минуты начинаешь понимать, что чувствуют люди перед смертью. Вернее, догадываться, потому что понять это не дано человеку ни до, ни после нее…
О чем думалось Матвею? Что вспомнил он? Чужой, а вроде бы и близкий человек, так хорошо понятный ей. Вспомнил ли он свою молодость или последние дни жизни? А может быть, то и другое враз? Вспомнил ли он ее или Варвару Петровну, или их обеих? Кто это может знать? Человек прожил жизнь, и все, что он успел сделать, осталось на земле, а то, что успел узнать от нее, унес с собою. Как ни говори, а свой опыт страданий и счастья на земле никому не передашь, и никого им не научишь – каждый должен изведать свою, только свою долю, и как это лучше сделать, ни у кого не узнаешь.
В последний раз приходил Матвей месяц назад. Она его долго не видела и поразилась тому, как он изменился за этот срок. Седой, задыхающийся, с обвисшими усами, сутулый и худой, он долго не мог начать разговор, глотая воздух открытым ртом и хватаясь рукой за грудь. Она испугалась его вида, растерялась и не смогла вовремя все это спрятать, утаить от него. И он, когда отдышался, откашлялся, с вымученной улыбкой спросил:
– Что, Сима, сильно я сменился с лица?
– Похудел, а так-то…
– На скелет смахиваю, – перебил Матвей. – Врать-то ты не умеешь и никогда не могла, а теперь уж и не учись.
– Чай будешь пить, Матвей? – спросила она.
– Я ведь проститься к тебе пришел. В этот раз слег, дак все боялся, что не повидаюсь под конец, и шибко худо мне от того было.
– Спешишь, Матвей, – сердце у нее сжалось от спокойной уверенности Матвея в своем конце, – спешишь, а напрасно. Она и без нас знает, когда ей прийти, а ты её подгоняешь. Зачем?
Но Матвей, наверное, не слышал ее, потому что ровным глуховатым голосом продолжал говорить:
– Нескладно жизнь-то у меня получилась, Сима, нескладно. Не понял я тебя тогда, ночью, не понял, а потому и ударил. Прости.
– Господи, – удивилась Серафима, – нашел, о чем говорить…
– Отец, покойник, похоже, и то лучше в тебе разобрался. Может быть, потому все так и получилось, что я-то не разобрался. И еще одна моя вина перед тобою – за дочь. Прости, Сима, если можешь. Тяжело мне с таким грехом на тот свет собираться, а ведь сделанного не воротишь. Простишь ли? – С робкой требовательностью он смотрел на нее, и видно было, как пульсирует на руке, ниже большого пальца, маленькая голубая венка.
– Давно уже простила, Матвей.
– Спасибо, Сима… Я ведь старался, Сима, все силы прикладывал, но осилить Варвару не смог – она Ольгу по-своему воспитала. Уже выросла когда, повзрослела, сколько раз просил, сходи к матери, поговори, ведь родная она тебе, исстрадалась… Бросила, говорит, она меня, знать такой не хочу. Характером-то в тебя – упрямая, да только упрямство это не туда повернуто… Дай чего попить, Сима, что-то в груди жжет.
– Чаю?
– Давай чаю, только сахар не клади.
– Бог ей судья, Матвей. Она ведь по-своему тоже права.
– Она не по-своему права, а по-Варвариному. Если бы по-своему – можно и смириться.
– Тебе-то легче теперь?
– Легче.
– А то ляг, отдохни. Я диван разберу.
– Дал бы бог, – вздохнул Матвей, переводя дыхание после чая и наваливаясь спиной на стену, – у тебя на руках помереть, а больше ничего не хочу. Все уже перехотел и все уже отжелал… Я болел, так думал, Сима. От войны-то схоронился, за бронь спрятался, а она меня и дома нашла. Нашла и раздавила, как червя земляного и поделом. Осип вон пьет, тоже жизни нету, а и он счастливее меня. На праздник, 9 Мая, он вместе с тобой в президиум поднимается, а я в зале сижу.
– Кто-то ведь и здесь должен был остаться, – возразила Серафима, – всем нельзя.
– Должон, – согласился Матвей и прикрыл глаза, – но и здесь надо было по совести оставаться, а я по боязни сидел. Работал, конечно, не хуже других, а фронта боялся. Вот и весь секрет.
– Устал?
– Устал. Пойду сейчас. Я вот еще чего хотел тебе сказать. Ольге-то я напишу или сам скажу, если приведется, она должна последнюю мою волю исполнить. Так ты ей все расскажи, меня не жалей, не надо. То, что я тебе сегодня рассказал, тоже доложи. Не должно так все время быть, не по справедливости… Ну, пойду. Хватится, шуметь будет.
– Поправишься, приходи еще.
– Приду, – он усмехнулся, поднялся с трудом, посмотрел на нее долго и попросил: – Поцелуемся?..
Серафима вышла проводить Матвея и с болью смотрела, как медленно и неловко ковыляет он по тропе, низко опустив голову и широко расставляя слабые ноги…
Серафима не выдержала, потянулась за папиросой и чиркнула спичкой, и тут же Никита проснулся, приподнялся на диване, удивленно посмотрел на нее.
– Не спишь, Сима?
– Не сплю.
–Дождь, что ли?
– Всю ночь поливает.
– А я сон видел. Что-то мои привиделись… Наверное, вспоминают. – Никита зевнул и сладко потянулся, выгнувшись широкой грудью над подушкой. – Я лет пять, как на мирные сны перешел, а то все такое снилось, что вскочишь в поту и не знаешь, за что хвататься. Один раз спросонья чуть комод не перевернул, окапывался, значит. Ну моя Мотря и выдала мне по первое число… А то плакал. Проснусь, а подушка мокрая. Вспоминаю, чего во сне видел, вспомнить не могу. А теперь-то чего не спать, то работу какую во сне делаешь, то ребятишки приснятся. Хорошо.
– Хорошо, – откликнулась Серафима.
Глава четырнадцатая
– Никита, ты ордена не взял?
– Нет, Сима, планки только прицепил. Да и нет их у меня, орденов-то, пацанва растаскала, а там в школьный музей попросили, в районную Комнату славы, я и отдал. А чего ты хотела?
– Так ты тогда костюм с планками надень.
– Надену.
– Осип тоже наденет. Я ему говорила.
– А зачем, Сима?
– Похороны сегодня, Никита. Мужа моего хоронят. Он хоть и не воевал, а от войны тоже дай бог вынес, вот мы его по-фронтовому и почтим. Ты уж прости меня, Никита, но сегодня с нами сходишь, а?
– Конечно, Сима, чего я один-то буду делать?
– Отдыхать приехал, в отпуск, а тут…
– Брось, Серафима, – недовольно перебил Никита, – а то ведь у меня и наряд схлопочешь… И вообще, чего это ты со мной как с чужим обходишься, или и правда чужой?
– Ладно, Никита, не буду больше.
Серафима, достав из чемодана военную форму, разложила ее на коленях и глубоко задумалась, не замечая, как чутко и торопливо ощупывают пальцы сукно, проверяют штопки, пуговицы и еще какие-то, ей лишь одной известные, мелочи.
– Сохранила? – удивился Никита. Он сидел за кухонным столом и направлял утюг, развалив его до последнего винтика.
– Сохранила, – вздохнула Серафима и погладила сукно руками. – Я от войны, Никита, все сохранила.
Задернув легонькую шторку на дверях, она медленно переоделась и долго стояла у комода, перебирая безделушки, которые в разные годы и по разным причинам покупала в магазине, и все никак не решалась подойти к зеркалу. Потом взяла гребень, тщательно расчесала все еще густые черные волосы, собрала их в узел на затылке и, закалывая шпильки, опять задумалась, так и оставшись с поднятыми к голове руками. Никита что-то говорил – она не слышала. С неприятно поразившим ее удивлением, Серафима поймала себя на том, что с тоскою думает о войне. Нахмурившись, она решительно подошла к зеркалу на стене и увидела, что помолодела до неприличия. И это опять неприятно удивило ее.
Она села на кровать и закурила. Пилотка лежала на комоде, ее она так и не решилась надеть. Сильно заболело сердце. Память упорно стучалась к ней, а она так же упорно гнала эту память от себя, боясь не осилить, не справиться с ней.
– Сима! – весело окликнул Никита, – покажись-ка.
И она очнулась, на ходу прихватила пилотку, точным, крепко заученным движением (словно и не было тридцати лет после войны) надела ее чуть набок и на два пальца над бровями. Отдернув шторку, вышла к Никите.
– Симка! – вытаращил Никита глаза. – Сгинь, Симка!
Она смутилась и, невольно подтягиваясь, прошла по кухне.
– Вот это фокус! – пристально и удивленно разглядывал Серафиму Никита. – Да неужто и я бы так помолодел в форме-то? Ну и ну. Тебя, Сима, впору под венец вести… А ну, повернись-ка еще разок. Н-да… А ремень-то есть?
– Есть.
– Надень.
Серафима перетянулась ремнем и, тоже привычно, расправила под ним гимнастерку, согнала морщины.
– Вот ведь как помолодела, – загрустил вдруг Никита. – Тебе форма идет.
– Увидел, – усмехнулась Серафима.
– Так пойдешь?
– Хотела, да не знаю…
– А чего тут знать. Иди так.
– Нет, Никита, гимнастерку я сниму, кофту надену.
– А ордена?
– Перецеплю. Долго ли.
Она ушла в горенку и еще раз глянула в зеркало и только теперь приметила, что у нее были старые глаза. Форма омолодила только ее фигуру, глаза же ничем нельзя было омолодить, потому что все, что они увидели за пятьдесят с лишним лет, – осталось в них. А видели они много страшного, чего человек видеть не должен. И особенно если этот человек – женщина.
Серафима, сразу уставшая и тихая, сняла гимнастерку, подержала ее в руках и принялась отвинчивать ордена и медали. Когда она сделала эту работу и награды, холодно звякая, с трудом уместились в ее руке, гимнастерка как-то разом осиротела, стала до неузнаваемости серой и обыденной. И Серафима долго, с удивлением смотрела на нее.
– Куда, куда прешься-то, идол? – зашикали, завозмущались старухи на Кольку Кадочкина, который, нарушив порядок, показался в дверях с обитой красным сатином крышкой гроба.
– А чего нести-то? – недовольно нахмурился Колька.
– Венки, как чего, поди не знаешь?
– Господи, помрешь, и схоронить-то ладом не смогут!
– Ничего к ним не пристает, все как от стенки отскакивает. Хоть бы это уж запомнили.
– А зачем? В городах, слышь, жечь наловчились. Вот им и без разницы.
– Они-то как хотят, а мы христиане, и пусть хоронят нас по-христиански.
– Они схоронят! Еще вперед головушкой выпрут, ума хватит.
Но дальше все пошло по правилам, и старухи примолкли, поджимая сухие губы.
Не переставая с самой ночи, продолжал моросить мелкий, по-осеннему холодный дождь. Он сыпал и сыпал из низких сплошных туч, которые медленно сползали с хребтов и вяло тянулись над Амуром в низовья. За этой тоскливой мутью едва проглядывали сопки на левой стороне реки, и все в мире как бы сузилось и потеряло свои размеры и очертания. Земля раскисла и, уже не в силах принимать влагу, покрывалась мелкими лужицами, в которых одиноко плавали первые опавшие листья. По этим лужицам и по листьям, по сырой, раскисшей земле медленно продвигались десятка три людей в сторону кладбища, что было расположено у подножия небольшой сопочки и густо поросло кустами боярышника да березами. Ярко рдеющие горьковато-сладкие ягоды боярышника источали крепкий запах селедочного рассола, и даже дождь не мог смыть этот запах, и поэтому когда люди подошли к кладбищу, вобрали этот запах в себя, многие удивились – откуда он здесь, словно раньше никогда не замечали его…
Все, кто шел сегодня хоронить Матвея Лукьянова, были в чем-то похожи друг на друга: почти у всех были одинаковые плащи, косынки и кепки, и даже старухи в своих черных плюшевых жакетках не нарушали общего впечатления и лишь один-единственный, неожиданно яркий (красный, с голубыми цветочками) зонтик сильно выделялся из толпы. Он медленно и празднично, весело отметая дождь, плыл над головами, и на него было как-то странно и тяжело смотреть. Словно бы этот зонт, помимо воли его хозяина, надсмехался над людьми, холодным дождем, далекими сопками и даже над самим покойником… Давно бы не выдержали старухи, строго укорили хозяина, да шла под этим зонтиком Ольга. И Серафима, чувствуя неловкость и огорчение, мысленно умоляла Ольгу, чтобы та убрала зонт хотя бы до той поры, пока не опустят Матвея в могилу. Но дочь, как и всегда, не услышала её…