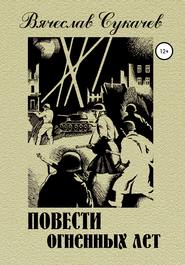скачать книгу бесплатно
– Выздоравливаю, Матвей, – слабо ответила она, так как устала за день.
– Садись, чего встал у порога? – Мотька за столом вязала чулок.
– Да я на минутку, – замялся Матвей, – Сима, слышь, может, привести к тебе Ольку? Пусть остаётся здесь… Она-то, Варька, сюда побоится сунуться. А Ольга быстро поймет, что к чему.
– Нет, Матвей, не надо, – твердо ответила Серафима, – мы и так уже её задергали. Надо было раньше думать… А теперь – не надо. Ни к чему. Вырастет, сама всё поймет. Хоть здесь, на глазах, и то ладно. Не трогай ее…
Матвей нахмурился, неловко потоптался у порога и ушел.
– Чего не согласилась, Сима? – удивленно спросила Мотька. Не дождавшись ответа, с жалостью сказала: – Сошлись бы вы, что ли.
Серафима молчала, да и как бы она могла объяснить Мотьке, которая на жизнь смотрела легко и просто, что война не только ограбила её, но и наградила тем чувством, которого она так ни разу и не испытала к Матвею…
И потянулись дни, месяцы, годы, прожитые в одиночестве. Оля росла, окончила школу, поступила в педагогический институт, получила диплом. Серафиму обходила стороной, а когда все же встречались случайно, бросала короткое «здравствуйте» и спешила дальше. С годами боль Серафимы притупилась, но не пропала. Теперь она хотела только одного – поговорить с дочерью. Хоть час, хоть пять минут. Но подойти к ней почему-то не решалась. Ждала, что Ольга сама подойдет, но Ольга не шла. И Серафиме до боли удивительна была черствость родной дочери. Ведь не могла она не знать, кто её настоящая мать, родившая и выболевшая её жизнь в муках…
Глава двенадцатая
– Сима, что это с тобой?
Она очнулась и увидела, что рядом стоит Никита, удивленно глядя на неё.
– Я тебе – Сима, Сима, три раза позвал, а ты молчишь, – говорил Никита, – что это ты?
– Задумалась, – улыбнулась Серафима, радуясь Никите, его беспокойству, довольному виду и даже рыбьим чешуйкам, что пристали к его болотным сапогам. – Как съездили, Никита?
– Отлично, Сима! – Никита заулыбался. – Рыбалка у вас – во!
– Сейчас пойдем уху варить. Я только теплоход встречу, и пойдем. А то ступай один, отдохнешь, ключ под крылечком.
– Ну нет, – отказался Никита, – вместе и пойдем.
– А где Осип?
– В лодке.
– Чего он там?
– Рыбу караулит,– засмеялся Никита. И хорошо стало Серафиме от его смеха, так хорошо, как уже долгие годы не было. И она сказала Никите:
– А другой раз подумаешь, Никита, не война, так я бы тебя не знала, Пухова, Хворостина. И жили бы мы теперь в разных концах, не зная друг друга. Народ-то, вишь, Никита, не зря приметил – нет худа без добра. Конечно, не приведи господь еще раз такое пережить, а только и мы добром не обойдены…
После ухи, наваристой и круто перченой, Никита сказал Серафиме:
– Ну, Сима, ты тут убирайся, а нам с Осипом инструмент подавай. Наведем, так сказать, текущий порядок в хозяйстве.
– Отдыхали бы, чего там, – слабо запротестовала Серафима, но Никита решительно заявил: – Не дашь работы – уеду.
И принялись они с Осипом вначале за крышу, потом летнюю кухоньку поправили, потом и за ограду взялись – перевесили калитку, заменили подгнившие столбики, сменили штакетины. Серафима, управившись по хозяйству, вышла на улицу, хотела помочь мужикам, но они запротестовали. Тогда она закурила и присела на завалинку. Ей любо было видеть, как возятся мужики во дворе, давно не знавшем настоящей хозяйской руки, как незнакомо меняется облик ее немудреного хозяйства, от которого за версту несло сиротливым вдовьим неустройством. Играючи работая топором, Никита говорил Осипу:
– Так-то оно так, но не только потому мы отступали. Нет, Осип, не только потому… Он против нас танковые дивизии, самолеты, даже мотоциклами не побрезговал, вот и попер…
Серафима прислушалась к разговору мужиков и впервые удивилась тому, что, как бы ни были тяжелы воспоминания, а память все возвращается и возвращается туда, в войну, которую теперь, через тридцать лет, хочется понять как-то по-иному. Может быть, возраст тому виною или время, а может быть, и то, что война для них всех осталась как память молодости, но только неизбежен такой разговор, стоит лишь встретиться двум фронтовикам, с болью и боем прошедшим войну.
– Он, подлец, на танке прет, да еще и постреливает на ходу, – продолжал Никита. – Нет, Осип, не только в неожиданности было дело. Да и как можно было его не ожидать, когда он выходил к нашим исходным рубежам, автострады построил, аэродромы, танки перегнал.
– Так у нас ведь замирение с ними было, чтобы не нападать, – хмуро возразил Осип. – Кто думал, что у него совсем совести нет, и он наплюет на это замирение?
– Должны были думать… Придержи-ка этот конец, нет, поверни, ага, вот так. – Никита, ведя спор с Осипом, про дело не забывал, и оно в его крепких руках хорошо спорилось, и смотреть на работающего Никиту Боголюбова было одно удовольствие, как и на воюющего. Любому делу, за которое Никита брался, он придавал какой-то домашний уют, крепкую русскую хозяйственность. – Ты вот Серафиму спроси, она не даст соврать, как мы от тех чертовых танков бегали, вместо того, чтобы лупить по ним изо всех стволов. А почему бегали – снарядов не хватало.
– Бегали, – задумчиво кивнула Серафима…
– А я вот чего скажу, – вступил в разговор Осип, – ты, Никита, давеча хоть и складно говорил о том, как немец и Иван в наступление ходили, а только не потому мы победили. И потому, конечно, но главное в том, что он нашего солдата не уважал. За человека не считал. Вот тут у него главная промашка и получилась…
– Бог в помощь! – подошел дед Никишка. – А я слухаю, наверху топоры тюкают, ну, думаю, кто же это там строиться затеял… А вы тут Серафимины хоромы ладите. А это кто такой будет, что-то не признаю? – уставился дед на Никиту.
– Жених, дедушка, свататься приехал, – засмеялся Никита, – отдадите за меня Серафиму?
– Это ещё посмотреть надо. К ней ведь и не такие подкатывались, да от ворот поворот получали. – Дед Никишка пошмыгал носом, посмотрел на работу мужиков и пошел на завалинку к Серафиме.
– Здорово живешь, Серафима.
– Здравствуй, дедушка,
– Все куришь?
– Курю.
– А кто это?
– Однополчанин. Вместе воевали. Никита Боголюбов.
– Женатый?
– Да.
– А чего он?
– Шутит.
– Так-то мужик видный.
– Видный.
– Я еще давя его приметил, как вы с рыбой от реки шли.
– Что в городе не гостили?
– А чё гостювать, – нахмурился дед Никишка,– суда еще не было. Отвез ребятишкам гостинцев, да и домой… А я к тебе, черемухой разжиться. Старуха животом мается, так к тебе отправила. Может, дашь?
– Дам. У меня её с прошлого года ещё три банки стоит.
– Будь ласка, дай, как-нибудь сочтемся.
Серафима сходила и принесла деду черемухи.
– Слышь, Серафима.
– А?
– Эта… заноза, говорят, опять тебя поносила.
– Да бог с ней, – отмахнулась Серафима.
– Горбатого, видно, могила исправит, – удивился дед Никишка. – И чего ей ещё от тебя требуется? Мужа сманила, дочери начисто лишила, а все ярится. Чудно… Говорят, оркестр из района заказала.
– Зачем?
– А шут его знает. Теперь вроде бы всех при музыке хоронят, вот и она захотела. Конечно, денег много надо, да у нее-то их куры не клюют. Сама-то пойдешь?
– Пойду.
– Сходи. Пусть еще немножко побесится.
– Да я ведь не потому пойду…
– А и потому тоже сходи, – строго сказал дед Никишка, – пусть не располагает, что она тебя вконец одолела… Поясница ноне болит, с самого утра так и ломит, к дождю, что ли?
– По радио не говорили.
– Так они потом скажут.
– Не надо бы его сейчас.
– Знамо дело… Ишь, куют мужички. И Осип не пьяный… Сколько Матвею-то сполнилось?
– Пятьдесят седьмой пошел.
– Молодой ишшо.
– Нестарый.
– До моих годков-то жить да жить.
– Что делать, она не смотрит на годы.
– Не смотрит. Я вот зажился, а ничего, бог милует.
– Живите.
– А то, поживу еще годков пять. Ну, ладно, Серафима, спасибо за черемуху. Пойду старуху лечить. Чего надо – прибегай.
– Прибегу.
– Покурите, мужики, замаялись, – задержался дед Никишка у калитки.
– Нанимай нас, дедушка, мы тебе дачу отгрохаем. – Никита ловко поддел ломиком столбик и, довольный, посмотрел на деда.
– Вас найми – не расплатишься. Только напоить – Амура не хватит.
– А мы щелбанами возьмем, не дорого.
– Так я ведь не поп, – нашелся дед Никишка, покхекал от удовольствия и не спеша направился домой.
– Слышь, Никита, – повеселел Осип, – давай уж заодно и этот… ну, сортир что ли, отшаманим.
– В один момент.
– Осип, – окликнула Серафима, – а ты бы Мотьке ограду-то все-таки отремонтировал, а?
– Сделаю, – пообещал Осип.
– Так сделай.
– Ну, не сейчас же. Потом…
Уже сумерки опускались над Амуром и где-то далеко, за высокими сопками, вспыхивали и мгновенно гасли зарницы, когда Никита весело сказал:
– Ну, Сима, принимай работу…
Глава тринадцатая
Ночью пошел дождь. Серафима проснулась и слушала, как монотонно, уже по-осеннему, барабанит он в окно, по шиферной крыше, как из слива на правом углу дома падает вода в бочку и, выплескиваясь через край, стекает в огород. Хорошо было под одеялом, уютно в такую-то мокрядь, и Серафима покойно лежала с широко открытыми глазами. На диване, укрывшись с головой, посапывал Никита. Привычка, наверное, оставшаяся у всех фронтовиков. А вот Серафима такому сну не обучилась – стоило прикрыть голову, как она задыхалась, ей не хватало воздуха, и лучше уж яркий свет, чем это неприятное ощущение задушенности, как при беге в противогазе.
Потом Серафима вспомнила, что завтра похороны, и опечалилась. Даже и не завтра уже, а сегодня, так как внизу, в Покровке, отпели первые петухи, басовито прогудел рейсовый почтовый водомёт из райцентра. Да, сегодня уже, и мало хорошего в том, что на самом исходе лета занудел этот дождь – расквасил землю, затопил мари по берегам Амура – ни рыбы теперь не взять, ни ягоды. Но главное, конечно, похороны. Оно и так на душе муторно, а в такую занудную погоду и подавно. Хорошо хоть копали вовремя управились, а ещё лучше, если догадались прикрыть чем-нибудь могилу. Хоть и мертвый человек, а все одно в мокрую могилу не с руки его класть.
И опять ненароком припомнилась ей война и то, как хоронили боевых товарищей в воронках, окопах, торопливо присыпая землей, торопливо, если были патроны, салютуя, не всегда успевая поставить фанерный обелиск со звездой, и тогда над холмиками земли оставалась простая каска или пилотка, и уже те, кто шел следом за ними, не знали, кто здесь похоронен и как смерть от войны принял… И сколько их, таких-то вот безымянных могилок, земляных холмиков под пилотками и касками осталось на земле. И всех приняла земля, и новых людей взамен дала, и кому ведомо, лучше они тех, что под холмиками, красивее или же не удались статью, не вызрели душой. Кому это ведомо – никому… Они выросли без войны, и, слава богу, научились жить хорошо, и от жизни много требовать, и это не беда, пусть требуют, пусть живут в счастье и радости, потому как на этот век бед и зла и без того достаточно было. Только бы не забывали, что это счастье беречь надо, беречь пуще своего глаза и жизни своей, потому как добывалось оно слишком дорого, чтобы растерять его за здорово живешь, по лености или тугодумью.
Фронтовиков-то, прав Никита, все меньше остается, рано уходят они, чаще всего и до пенсии не доживают, слишком много сил пришлось им отдать в те четыре года. А кто еще, как не сами фронтовики, могут рассказать о войне всю правду. И такие рассказы никакие фильмы не заменят, никакие книги не осилят, как бы хорошо там все ни писалось и ни показывалось. Только на ее, Серафиминой, памяти, сколько случаев таких было. Пусть знают все. И то, как трупы молевым сплавом по рекам шли, и то, как в разведку боем ходили, и как прорвавшихся из окружения солдат встречали… Был случай, спрашивает ее Колька Кадочкин: мол, тетя Сима, цветы-то вам дарили на войне или нет. А она вот что-то за всю войну и цветов не припомнит, и бог их знает, были они тогда на земле или нет. А даже и были, то какие же это цветы, если они из крови всходили, если вся земля этой кровью и железом как губка напиталась…
Серафима заворочалась, захотелось ей курить, но она боялась дымом потревожить сон Никиты и перемогла, стерпела это желание и опять прислушалась к дождю, и припомнилось ей с болью, сколько таких-то вот сиротливых ночек пережила она за свою жизнь, одиноко ворочаясь в постели и с грустью думая о том, кого уже давно не было на земле, да и в самой-то землице вряд ли чего осталось. И, казалось, затаить бы ей обиду на неудавшуюся свою жизнь, на тех, кто лучше устроился, кто быстрее от войны сумел отойти, и от памяти о ней, но нет, не было такой обиды в Серафиме, никогда не приходила она к ней, даже в самые горькие минуты, даже в самые тяжелые часы. Она сама, без принуждения и натуги, выбрала свой удел и сама, без жалоб и сетований, справлялась с ним. Только однажды… Да нет, и однажды не было. Было что-то жалостное, скорее, материнское, чем бабье.
Тот мальчик-председатель, бывший комсомольский работник, Сергей Иванович Козлов, вдруг начал больно сильно заботиться о ней. Придет она домой, а во дворе целая машина дров лежит, напиленных и наколотых, в другой раз кто-то сарайку перекроет, огород вскопает. А однажды и того чище – два кубометра теса завезли, потом из этого теса летнюю кухоньку соорудили, и опять без её ведома. Она ещё и в толк ничего взять не успела, а по селу уже слухи пошли, и Матвей вдруг разом перестал с нею здороваться. Тогда Серафима пошла к председателю. Шла сердитая, готовая наговорить ему черт знает чего, даже из колхоза выйти, но как вошла в кабинет и увидела густой румянец на председательских щеках, его виноватые и покорные глаза, так все разом из головы и выскочило. От его смущения и сама смутилась, так как в деле хваток был молодой председатель, тверд и строг. Спросила его:
– Это вы всё?
Он кивнул и стул ей подставлять бросился.
– Зачем?