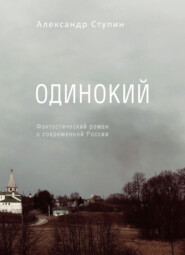скачать книгу бесплатно
– От вас, Отто, не спрячешься. Только ведь и у вас шаблонное мышление о чиновниках, политиках. У нас ведь – ничего лишнего, только функция. Не задумывались о вреде такого подхода? Вот вам образец нового подхода к управлению. Ведь мы все попались на его удочку. Глава района переключил наше внимание на свои проблемы. Но приди он в стандартной офисной привычной одежде, с портфелем в руках и с надоевшей печатью озабоченности на лице, стали бы его слушать? Нет. Отправили бы к губернатору в приёмные часы. А так мы уже полчаса с ним говорим и озаботились проблемой района. И настолько серьёзно, что продумываем, как обойти все острые углы. Труд чиновника иной раз напоминает труд бурлака.
– Бурлака? Я не понимаю. Это кто?
– В позапрошлом столетии по Волге, слышали о такой реке в России, ходили баржи. Так вот, поскольку двигатели паровые были дорогие, баржи таскали ватаги, группы людей. Они шли по берегу и за канаты тащили баржу против течения.
– О, это очень тяжело. Рабский труд.
– Тяжело, но не рабский. Там свои истории были. Всё за деньги, не бесплатно. Так вот, была такая история, подрядился в ватагу известный русский писатель Гиляровский[2 - Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935) – русский писатель, журналист, поэт, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Автор слов военного марша «Из тайги, тайги дремучей…», (1914); в советское время слова были переписаны – «По долинам и по взгорьям». Гиляровский описал свои приключения в бурлакской ватаге в книге «Мои скитания».]. Был он нормально одет, хорошие новые сапоги, костюм. Его переодели так, как одевались все бурлаки: лёгкая одежда, а на ногах – лапти. Гиляровский расстроился вначале, что потерял сапоги. Но потом оценил: в сапогах по песку и камням он бы далеко не ушёл. А вот в такой обуви, как у Анатолия Дмитриевича, сотни километров прошагал.
– Ну что, Анатолий Дмитриевич, пойдёте к нам в ватагу бурлаком? Я всё согласую. Вы ближе нас всех к этому месту, знаете проблемы. Будете курировать стройку, а губернатора мы от этой ноши освободим. Он и так стонет, у него проблем в области нерешённых хоть отбавляй. Согласны, Виктор Константинович? – обратился к Базарову представитель президента с вопросом, хотя по тону было ясно, что вопрос риторический. Всё решено.
Губернатор попытался изобразить на лице облегчение, радость освобождения от тяжелой ноши, но лицевые мышцы его не слушались, он что-то промямлил, стоял красный и растерянный. Даже глаза, глаза были пусты. В них не было ничего прежнего: гнева, печали, ярости. Пустота. Убили на месте. Только упасть и закрыть их. Руки разбросать по сторонам, ноги протянуть, вздохнуть несколько раз и прошептать: «Убили, сволочи, за что?»
– А я соглашусь. Возьму и соглашусь, потому что чувствую: смогу. И спасибо, что предложили. Низкий вам поклон. За своих я постою. Буду тянуть лямку бурлацкую, – Анатолий Дмитриевич поклонился и отошёл в сторону. Он не верил в случившееся. Наваждение. К губернатору он даже поворачиваться боялся: чувствовал, останься они один на один, поубивали бы друг друга. Базаров – тот ещё кабан, и ростом повыше, и пошире мордой и пузом.
Разъезжались. Глава района махал сердечно всем рукой, только что слезу не пускал. Трогательное прощание. Потом он стоял у машины и смотрел на стройку. До сих пор не мог поверить происшедшему. Ехал на встречу, как на казнь, а получилось наоборот – наградили.
«Главное теперь – не сорваться. Деньжищи тут крутятся… Не выдержу, и, как минимум, лет на десять упекут. Кто за меня, сироту, заступится? Кремлёвские мальчики тут, конечно, копытом будут бить, идейки подкидывать, субподрядишки разные. Хрен вам. Что важнее, лишний миллион, хотя, когда он лишний бывает, или политическая карьера? Появился выбор. Выбор. Как бы не ошибиться. Стать популистом, народным героем можно. А потом ходить на митинги с теми бывшими, кто когда-то лопухнулся… Как, как? Крутиться. Но ведь это интереснее, чем у деревенских сотки тырить. Масштаб другой! А что-то я забыл совсем про свою главную проблему. Где банник? Я ведь у него, как заложник. Заложник. Нужно найти на него управу. Кто, кто, кто поможет?.. Синод наш? Архиепископ может подсказать. Начну с него».
VIII
Базаров никогда не любил своё губернаторское кресло. Вот уж пятый год он сидел в этом кабинете и ненавидел в нём всё: окна, двери, стол этот идиотский, старый паркет и даже портрет Президента в тёмной раме.
Прежний кабинетик директора Межрегионгаза был уютнее и спокойнее. Газ по трубам поступал вне зависимости от представлений клерков о его составе: природный и не природный, какая там у него формула, какие-такие свойства? Нет, одно свойство газа он точно знал – денежное. И служба там была понятна и необременительна: планы, совещания, командировки в Питер и между делом: охота, рыбалка, отпуск в красивых местах, отличная зарплата и вознаграждения.
И вот приказ сверху: надо посидеть в областной администрации и кое-что сделать для компании. Думал: год, ну два, а застрял на целых пять. Пять потерянных лет! Все эти областные дороги, поля, рейтинги, разбитые коровники, нищий бюджет и постоянный страх. Этого раньше не было. Чем ближе к пенсии, тем больше страха. И когда посчастливилось заполучить этот завод, заводик, если положить руку на сердце, по масштабам страны, свет в окошке зажёгся. «Сделаю, съеду, к чёртовой матери, отсюда. Буду каким-нибудь там сенатором, на худой конец, и плюс этот заводик. А тут такой облом. Это под меня копают, и в бой бросили этого упыря из района. Или я его в бараний рог сверну, или меня под зад коленом. Последний бой, он трудный самый».
Виктор Константинович ждал прихода Соболева. Сегодня. «Войдёт, сразу к стенке припереть и бить, бить, бить. Жаль, что только словами», – настраивал он себя.
– Глава администрации А-ского района Анатолий Дмитриевич Соболев, примете? – спросила вошедшая секретарша Маргарита Павловна, старый проверенный боец. Губернатор не любил заводить молоденьких девочек. Толку от них мало. Только расстройство.
– Да. Никого больше не пускать.
Он вошёл. Вошёл, как взошёл. Наглый, тоже готовый к драке и понимающий, что вдвоём они в одной области не уживутся.
– Добрый день, Виктор Константинович.
– Добрый, проходи, Анатолий Дмитриевич. Разговор будет у нас коротким и жёстким. Но, может быть, взаимовыгодным. Как повернётся дело. Ты – мужик не без головы, я тебя понимаю, засиделся в районе, гоняешь со своими братками по полям, кур доишь. Хочется масштабов. Но говорю прямо и чётко – завод оставь. Не знаю, как ты это сделаешь. Согласишься, помогу в отставку почётную уйти, ну и, соответственно, покумекаем о твоём карьерном росте. Не пожалеешь. Воевать со мной не советую. Соглашайся.
– С чем? С тем, что в области творится, в стране? Как я людям в глаза глядеть буду? Они у меня весь день вот так вот – на расстоянии вытянутой руки. Сердце давит.
– Ты что, опять, опять… Опять лапти обул? Ты и народ? Может, ты в Бога уверовал? Уверовал?
Губернатор приподнялся с кресла. Его начинало трясти. Первоначальный план рушился. Анатолий Дмитриевич понял: «Началось», и продолжил наступать на губернатора, удивляясь самому себе:
– Уверовал в Бога нашего и Святую Троицу. (А про себя: «Что я несу? Я – бандит по сути, в кресле, при власти».) Уверовал, как сотник. Сотник увидел Христа и уверовал. Вот и я работал на таких, как ты, а потом думаю: «Сколько можно гниль жрать? Совесть и пробудилась…»
– Совесть?.. У тебя?
– Сам удивляюсь. А есть. Если глубоко копнуть. Там, очень глубоко. Если хочешь, откроешь источник. Даже в твоей пустыне, если копать глубоко.
– Ты мне зубы не заговаривай. На моё место метишь? Вот тебе. Шиш. Не пройдёшь.
– А почему «нет»? Почему?
– У тебя – руки в крови. Братки у власти? Не бывать этому.
– Барыги у власти, значит – нормально, а честные пацаны – это плохо?
– Значит, так. Если хочешь войну, ты её получишь, нахлебаешься по самое не хочу… Ты думаешь, за тобой кто-то стоит? Этот, думаешь, москвичок? Сынок сопливый… который только за папину спину прячется. Они там все… Только вот, вот они где будут, вот где будут, – губернатор сжал руку в кулак.
– Ты – сумасшедший. Или нет… Ты – просто барыга, лавочник, пассажир. Мой ответ будет такой: сваливай по-тихому, сам. Я даже мешать тебе не буду. Сам. Пока народ тебя не сдёрнул. Так бывает.
Анатолий Дмитриевич встал со вздохом, дескать, что с тебя взять-то, задвинул аккуратно стул и пошёл уверенно и твердо к двери. Так же вежливо открыл и закрыл её за собой, так делает обычно тот, кто чувствует за собой силу. Виктор Константинович провожал его, так получилось, стоя, почти на вытяжку.
– До свидания, присаживайтесь, не надо меня провожать.
– Пошёл вон, вон, вон!!! – в вдогонку заорал губернатор, но так получилось, что обращался он к закрытой двери. А дверь – лицо неодушевлённое, равнодушно снесла вопль и только слегка скрипнула.
– Звали, Виктор Константинович?
– Нет… Нет… Нет… Чаю, да-да, чаю мне, пожалуйста…
И присел.
Кто за ним стоит? Кто? Что за дьявол такой? Откуда такая самоуверенность? Узнать! Нужна полная информация.
IX
Банник не появлялся с месяц у главы. Раньше, когда Соболев приходил в администрацию, он прежде спрашивал у секретарши, не было ли кого.
Особенно было неуютно по вечерам. Скрипнет дверь, Анатолий Дмитриевич вздрагивал, оглядывался, ждал, вот он явится, и что-то будет. Дни шли, ничего не происходило, и Соболев в конце концов стал успокаиваться, а потом и вовсе махнул рукой: «Да пропади всё пропадом, хоть чёрт явись, и не такое видели».
А повидал он, действительно, много. Что перечислять, в милицейских архивах часть отложилась, там и про него папочка найдётся. Тогда, в 90-х, это было повсеместно: мошенничество, убийства, делёж, бравада этим. Нынче поприутихло. Тише стало. Не прекратилось, но стало тише. Незаметнее. Основное-то поделили и переключились туда, в мир. В мир-р-р. И уже, как политики. Скачок. Был районным барыгой, стал политиком, государственным деятелем.
Вот откроешь какую-нибудь википедию, ба, знакомые всё лица: депутат, политик, сенатор, владелец, директор… а папочки лежат в архиве, лежат, как мины подводные, и ждут своего часа. Плаваешь – плавай. Только глубоко не лезь, подорвёшься. Детям проще будет. А родители – по уши в дерьме. Флибустьеры берёзовых околков. Так вот, те папочки-мины менее опасны, чем всякие нечистые. Они фарватер указывают, как буйки. А вот эти, повылазившие, случайности создают. Плывёшь по старой дорожке проверенной, а тут раз тебе – айсберг в бок своей подводной частью. И ведь не Титаник ты, куда там, так – баржа речная… С этим надо что-то делать.
Начнём с синода, с архиепископа. У них там строже, чем в партийном контроле давнишнем. Договорился о встрече с архиепископом, который правил в местной епархии, глава района легко. Позвонил туда-сюда, решил пару пустяковых проблем для одного храма, и – пожалуйте отобедать с архиереем.
Владыко вёл простой привычный для себя образ жизни и, если не вынуждали обстоятельства, предпочитал кушать у себя дома. Жил он недалеко от центра губернского города, в той его части, где стояли старые одноэтажные дома ещё дореволюционной постройки. Архиерейский дом ничем не отличался от соседских: ни материалом, был он насыпным и обшит крепкой вагонкой, давно просившей покраску, ни дорогой, к нему ведущей – та же грунтовка. При доме был небольшой участок, такой же, как у всех, и чужой человек никогда бы не поверил, узнав, кто здесь живёт. Ведь архиепископ по старому российскому Табелю о рангах чином был сравни губернатору, то есть генералу. Но прихожане считали, что так и должен вести жизнь монах даже при высокой должности. Он их не разочаровывал.
Внешне архиепископ Федосий был приятен, без жеманства, без притворной картинной набожности и без нудного церковного менторства. Сними с него рясу, побрей – готовый руководитель: строгий и справедливый. Родился он давно, служил на Украине, потом за морем, и забросила его судьбинушка в Сибирь, куда просто так не попадают. Но он не скис, а развернул такую бурную деятельность, что соседи обзавидовались. И ещё, он был дипломатом: к месту обходителен, а иной раз строг и властен.
Соболев с ним уже встречался. В 1992 году он, тогда работавший в одном из департаментов города, принимал участие во встрече одной немецкой делегации из Плаунена. Немцы везли в город конвой гуманитарной помощи: с десяток старых машин Ифа[3 - IFA-автомобильный холдинг бывшей ГДР, с 1961 года выпускал автомобили разных марок. Под названием «Ифа» в России известны грузовики: W50L – грузоподъемность 5 т, и «Робур» – малотоннажный, на шасси которого часто устанавливали спец, будки: технические и медицинские лаборатории.], когда-то выпускавшихся в ГДР, бывших всё ещё на ходу, но такие уже лучше дарить; автомобили были нагружены секонд-хэндом, медицинским оборудованием и медикаментами. Возглавлял эту делегацию архитектор маленького городка, его же жители избрали главой городской администрации.
Так вот, когда они ехали к Феодосию, то немец ойкал, а потом спросил, почему такое бездорожье в таком большом городе? Что ответить? Не хватает средств у города. А жители? Почему они не чистят, не ухаживают за улицами? А действительно, почему? «Если бы у нас так было, я бы сам стоял с лопатой на такой дороге. Или меня бы на следующий день переизбрали».
Тогда Анатолий Дмитриевич лишь кивал согласно. Сейчас вспомнил, когда его машина, то и дело касаясь днищем, медленно и осторожно, как змея на охоте, ползла по разбитой дороге.
«А дом не изменился, чуть фундамент подремонтировали, доски на заборе заменили. А так – те же резные ставенки, въездные ворота, калитка. Дому-то, поди уж, за сто лет».
Владыко был во дворе. Просто по-монашески одет и, как всегда, гостеприимен. Они недолго говорили о былом, потом перешли в гостиную, где им подали скромный обед. И только после трапезы – разговор. Как только начать-то его, глава не знал.
– А что, Владыко, был я в селе Серебряная Долина, видел, церковь восстанавливаете. Красивые там места.
– Бог дал силы, восстанавливаем, прекрасный храм там стоял. Нынче, конечно, мы такого богатства дать не можем, и иконостас поскромнее, и кресты не позолоченные. Но на колокол деньги нашлись, спонсоры помогли.
– Мы тоже поможем, сейчас бюджет раскидаем, хоть копейку, но перечислим.
– Дай вам Бог здоровья.
– Ну что вы, чем сможем, поможем. Вы только скажите, может быть, я ещё чем-нибудь смогу помочь, так сказать, используя административный резерв? Мало ли что, проблемы возникли… Вспомните обо мне. Я всегда готов. Почту за честь.
– Пока особенно ничего. Но спасибо за доброе слово.
– Село красиво. А местные говорят, у вас там чудеса случаются. Будто живёт в этом селе парень, чуть ли не домовой.
– Слыхал я. И местного батюшку спрашивал. Слухи – то. Живёт при церкви молодой отрок, сирота круглая. Ни отца, ни матери не знал. Он имеет заболевание какое-то, роста маленького, говорит плохо, безграмотен, но человек вырос хороший, добрый, отзывчивый. Вот его и назначили местным человеком божьим, юродивым, по-старому. Я буду там скоро. Сам посмотрю. Ну не гнать же сироту. Он и церкви помогает. Как может, конечно, как может.
Они вскоре распрощались. Архиепископу нужно было уезжать, да и Анатолию Дмитриевичу пора было появиться на службе. Ехал он в раздумье. «Если Владыко ничего не знает, значит это не существенно для них: «Живет при церкви сирота…» Ну да, что тут плохого? А если сирота – не просто сирота, а из тех, потусторонних, из духов? Тогда это запрещено.
«Что мне надо? Я должен знать, как воздействовать на сиротку – водичкой святой, заклинанием, травкой… Чем? Как его приручить? Это же сила и возможности невероятные! Подумать страшно, что он может. Итак, управлять и беречь. Беречь и управлять. Ведь если узнает губернатор, то своего не упустит. Либо постарается подчинить сиротку, либо уничтожить. К кому пойдёт? К архиепископу? К ведьме какой-нибудь? Всё использует. Хоть с самим дьяволом сделку заключит. И тот, кто завладеет малюткой, будет править. Высокая цена. И у меня есть фора. Пока ещё есть».
Губернатору об интересе районного главы уже доложили, но навязываться к Владыке Феодосию в гости надобности у него не было, они встретились на концерте Камерного хора под управлением Владимира Минина. Случайно. Ну почти случайно.
О странной тайной встрече Соболева и о содержании его разговора с архиепископом Базарова проинформировали подробно; источники были не из спецслужб, от них он старался держаться подальше, а из ближнего окружения как Соболева, так и самого Владыки. Доброжелателей у них хватало. Ну а дальше сопоставить факты было не сложно. Пазлы складывались в замысловатую картинку. Вначале губернатор верить в это отказывался: «Ерунда какая-то. Колдовство – бред африканский. Может быть, Соболев ещё иголки в мою фотографию втыкает по ночам? Или не в фотографию, в куклу. Вудист, бляха-муха. Но с чего тогда такая смелость, а? Был ведь тих. Хитрил, опасен был, но на рожон не пёр. В открытую не вякал. Пойдём и мы к губернскому попу. Разведка боем».
Когда в зал филармонии зашёл архиепископ, все зрители встали и повернулись к нему лицом. Уважение жителей города к Феодосию было громадно. Чиновники незаметно проскальзывали на свои места, чтобы не измерять свой общественный вес. Губернатор слегка опоздал, поэтому его приход никого ни к чему не обязывал, и он не испытал откровенной зависти. Впрочем, кто из нас сомневается в том, что в России нелюбовь к власти – это естественное чувство, передаваемое с молоком матери. Ну а что касается тех времён, когда толпы восхищённых кричали, в зависимости от ситуации: «славься, царь» или «слава великому вождю», так кто кричал, а кто кайлом махал. Разные условия были.
Концерт был для Виктора Константиновича ценен ещё и тем, что его видели рядом с главой Епархии в непринуждённом виде и, так сказать, вместе с народом. А в антракте так вообще – в окружении народа. Раскланивались и окружали архиепископа, но в кадр попадали оба. Ценный кадр. Возможно, станет известно в Москве. Возможно. Президент – Патриарх, губернатор – архиепископ. Не близко, но линия правильная.
Во время антракта губернатор, прогуливаясь с архиереем, начал разговор первым, поделившись своими впечатлениями о первой части концерта духовной музыки. «Это, о чём размышляешь в короткие минуты душевного спокойствия, и чего всегда не хватает», – начал он штамповать банальности впопад и невпопад, но из-за шума в фойе его всё равно было плохо слышно. Но всё читалось у него на лице: рад видеть, и концерт понравился. Феодосий пропускал всегда мимо ушей лестные речи, но вида не подавал, ждал, что за этим последует.
– Говорят, в епархии появился божий человек. Предсказывает, чудеса творит. Слыхали уж?
Владыко напрягся: «Хм, и этот туда же. Надо скорее съездить к отцу Иоанну, что-то интерес этих господ мне совсем не нравится».
– И вы туда же, многоуважаемый Виктор Константинович. Слухи, народные слухи, уверяю вас, не более. Сколько я их наслушался. То младенец с крыльями и говорит на шести языках, то петух яйца стал нести, то икона слезами заливается… Народ всегда чудесами живёт…
– А что, икона не мироточила ни разу? А как же рассказы?
– Чудеса не только от Господа идут, иной раз – бесовские игры. Да и не в том чудо, что видно, чудо там, где не замечаешь.
– Это где же? На что вы намекаете? – забеспокоился вдруг губернатор.
«Вот дурак, прости Господи. Откуда ж вас берут-то?» – подумал архиепископ. Но вслух сказал:
– Чудо в душе происходит. Был сотник на службе царя, плохое творил. Уверовал, и стал верить во Христа.
– Ну да, ну да, знавал я одного такого сотника, – пробормотал губернатор себе под нос и громко, сильно переигрывая, произнёс, – Да. Да. Душа – тонкая материя. Вера и душа. Так и запомню. А то ведь, у меня-то всё – хозяйство, бюджет у меня – всё, и так круглый день. Нет времени о чуде в душе подумать. Вот так случилось бы чудо, и душа возрадовалась. Ан, нет. Нет радости-то. Всё – обман, текучка. Пустяшное всё на деле. Так жизнь и пробегает. А вспомнят ли когда-нибудь потомки такого человека, который, как раб божий, впрягся в соху и тянул, чтобы, значит, эти семена туда, куда надо, легли? Так ведь, кажется, в Библии? Чтоб проросли семена-то, а не затоптаны были.
– Вольно трактуете священные тексты.
– Ну смысл тот же? Смысл-то я правильно уловил?
– Уже то, что вы обращаетесь к Библии, делает вам честь, уважаемый Виктор Константинович… Второй звонок, я прошу простить великодушно, пора садиться…
– Да-да. Пора… На свои места садиться. Каждому своё место. А у нас на чужое норовят… Извините меня за многословность, понесло туда, в чём так мало разбираюсь… – закивал губернатор, постоял в раздумье и не пошёл на своё место, а махнул рукой помощнику и охране. – Уезжаем.
Он сидел в машине, рассеяно глядя в окно на серый в сумерках город и размышлял: «Значит, правильно я думаю, правильно. Найду я вашего духа, а там и поговорим. Будем искать духовное вместе. Цели только разные и инструменты. Никуда оно от меня не денется. Пошлю-ка я разведку в это село».
X
Отец Иоанн встречаться с парнишкой не хотел. Не по себе ноша. Вот и Преподобный Иоанн Лествичник предупреждал: «Есть мужественные души, которые от сильной любви к Богу и смирения сердца, покушаются на делания, превосходящие силу их… А враги наши часто нарочно для того подущают нас на такие дела, которые выше нашей силы, чтобы мы, не получивши успеха в них, впали в уныние…»[4 - Лествица. Указ. соч. – С. 374.]. В VI веке сказано, а как современно звучит. По-русски говоря: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». А чудеса банника ещё наведут шороху в наших краях. Это только ветерок был, все бури впереди ещё. И за что мне это всё, мне – простому сельскому попу, который удалился, да что там, бегом сбежал от городской суеты и соблазнов сюда в сельскую тихую жизнь? А тут войны развернулись похлеще городских: стрельбы, убийства, интриги и чудеса».
Не ошибся он. Слухи о чудесах в селе Серебряная Долина расползались очень быстро. Не было дня, чтобы к церкви Воскресения Христова не приходили паломники. Вначале они шли из соседних сёл. Потом, не без помощи дачников, которые разнесли новости друзьям-знакомым, появились верующие из города. А дальше стало привычным: «Мы, батюшка, издалека сюда. Слыхали, что колокол на колокольню вашу сам с земли поднялся без всякого крана. И есть у вас человек Божий, имя у него чудное такое… Как бы нам к нему на беседу?» И понеслось. Приходил, молился, чудес искал народ. Куда же без чуда в России?
И он пришёл. Где ходил, как жил, не сказывал. Поклонился отцу Иоанну и попросился жить при церкви. Как ему откажешь, хоть и зябко рядом с таким-то.
Одним словом, когда по приказу губернатора примчались двое соглядатаев в село, там уж к старцу Лишке, так сократили имя его паломники от прошлого «Слишком», очереди выстраивались. Люди шли и шли в село. Их становилось всё больше и больше.
Местные поначалу были недовольны – продукты в магазин завозить не успевали, опять же к реке не выйдешь: то здесь сидят паломники, то там. А потом, деваться некуда, попривыкли и оценили произошедшие перемены: вот уже и ночлег предлагать стали, старые никому ненужные домишки в «хостелы» перестроили; кафе, столовая, пельменная и так далее, чтобы гости в хорошем настроении от сытости были – достаточно на всякие вкусы. Местный рынок, работавший когда-то на трассу, вернулся в село и значительно расширился. Жизнь в селе стала перестраиваться под новое дыхание, стройка и пришлое АО растворились в воздухе, откуда и пришли. И это тоже было воспринято, как чудо.
Знающие люди могли только посмеяться над этим, потому что это конкретное чудо было вполне рукотворным. Глава района, который затеял строительство от скуки, вдруг распорядился вернуть всё, как было. Знал бы он, во что выльется этот его приказ! Губернаторские «шпионы» долго в селе глаза не мозолили, покрутились среди народа, повыведывали и тихо удалились, как черти полуденные. Они тоже были поражены переменам, но поспешных выводов делать не стали. Пусть наверху выводы делают.
Парнишка, а теперь уж старец Лишка, поселился недалеко от храма в старом заброшенном амбаре. Что там держали раньше, никто вспомнить не мог, но амбар был каменным, ещё той старой кладки и, что немаловажно, с печкой. Лучшего места придумать было нельзя. От церкви к зданию вела тропка, камнем выложенная, заросшая кустами сирени и шиповника. А как подходишь к амбару – площадка большая, хоть митинг устраивай. Как в лихие времена местные мимо прошли? Это ж сколько кирпича даром пропало?
Жизнь свою старец устроил настолько просто, удобно и понятно для всех, что народ и это чудом воспринял. А то не поняли, что языческое – оно же наше родное, от нашей природы, и воздуха, и воды в реках, от землицы. Это уж потом греческую веру принесли, своё же закопали-сожгли. Только оно всё равно проходило сквозь частокол запретов и новых правил духом берёзовым, грибочком беленьким, рябинкой тоненькой…
К старцу стали прибиваться послушники. Отец Иоанн уж со своими обязанностями не успевал справляться, и рядом с ними стали служить дьякон, подьячие… Народу стало – не протолкнуться. Тяжело было поначалу, а потом – радостно. И Слава Богу.
Когда в село нагрянул архиепископ со свитой, был праздник церковный. Владыко приехал сам и привёз на двух автобусах паломников и хор архиерейский. Ехали-то в село. Кто там что мог? Когда подъезжали, с колокольни ударили в колокола, а на площади перед храмом народу было не меньше, чем перед кафедральным собором в городе. Владыко заволновался, но быстро взял себя в руки: «Мог бы отец Иоанн и предупредить. Мы-то со своим думали так, по-семейному, а тут видишь, что творится. Даже телевидение, и те приехали…» А уж когда его встречали священники и монахи, образовавшие длинный коридор, тут Владыко не скрывал своих чувств. Искренне радовался и всех приветствовал.
Старец Владыку не встречал, никто этому не удивился, а стоял он на колокольне, бил в колокола. Он был выше всех, хоть и самый маленький. Носил он ту же холщовую рубаху, те же лапти и шапочку из светлой тонкой войлочной ткани – то ли колпак, то ли монашеская скуфья.
В праздник его никто и не видел, да и не разглядел бы среди такого количества народа, пышной службы, блеска позолоты и церковного пения. Голоса певчих разносились над речной долиной и усиливались, как будто создатели храма специально подыскали место, где сама природа создала удивительные акустические условия. Восторгу всех присутствующих не было конца.
Скромно в рядах прихожан и паломников стоял Анатолий Дмитриевич, и когда его взгляд встретился со взглядом Владыки, он понял, что попал в цель: то ли повезло, то ли счастливый билет вытянул – вот оно как бывает, чего не ждёшь. Хотел ведь по мелочи, стырить хотел, а сообразил, проникся, и как обернулось всё. Все его братки, умытые и причёсанные, стояли боевой дружиной и зорко смотрели за порядком. Чувствовалось, что это им самим нравится. Сегодня, во всяком случае. Что будет завтра, кто знает?
Владыко пригласил главу района встать рядом, и он подошёл. Стоял перед верующими впервые, и в душе его шевельнулось что-то, зажглось тонким срывающимся огоньком, и Анатолий Дмитриевич расчувствовался, чего с ним никогда не было, и тайно пустил слезу. Как будто лицо платком вытер, а на самом деле глаза, наполнившиеся слезами. Как будто пот вытер. Но было приятно. Думал, никто не заметит. Телевизионщики случайно захватили эту сцену. Так это и увидел потом губернатор.
Когда закончился праздник, а потом обед, площадь перед храмом опустела. Владыко Феодосий в сопровождении Анатолия Дмитриевича и отца Иоанна прошёлся по селу, осмотрел окрестности. Он остался очень доволен.
– Когда ехали сюда, признаюсь, испытывал тревогу и волнение. Куда едем? Может, опять отчаяние, безнадёжность, пустые заброшенные фермы. Что может сделать священник? Приободрить. Но накормить не может, одежду купить не может. Вот и стоишь перед прихожанами, а сказать-то и нечего порой. Терпите? Что и за что? Как Мамай прошёл по стране. Войны не было, а разрушения такие образовались. И вдруг – красота. Нет уныния в глазах у людей. И церковь в порядке, и стол – не пустой. Как раньше удивляло: два села, поля – рядом, один колхоз – в порядке, в другом – последний плетень завалился. Понимаю, что не без вашего старания перемены эти, уважаемый Анатолий Дмитриевич.
– Не знаю, искренне говорю. Мои заслуги так малы во всем этом. А столько ещё сделать хочется, – ответил Соболев, ещё находясь под большим впечатлением от происходящего.
– И вот ещё… нередкость, сёла голые стоят: ни палисадничка, ни деревьев. Вот поле, лесочек, посади себе яблоньку, ёлочку. Красиво же, да и тень летом. В поселении редкий куст растёт. Огороды только под картошку да капусту. Ни малины, ни смородины, ни яблонь…