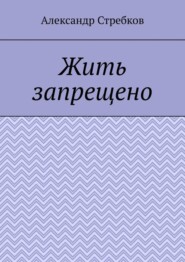
Полная версия:
Жить запрещено
А на следующий день фронтовики продолжали отмечать праздник и обмывали новую полученную юбилейную ме-
даль. Николай Иванович человек был не пьющий, но в тот день пришёл немного выпивши. Мы вдвоём с его сыном Петром сидели на лавочке под забором; он подошёл и, усевшись с нами, стал нам рассказывать почему-то именно о войне с Финляндией, вероятно, она – эта засекреченная вой- на, для него была куда памятней и страшнее, чем четырёх- летняя с немцами. Рассказ его мне запомнился на всю жизнь, и я изложу содержание этого рассказа так, как я его в то время воспринял.
…Кругом всё покрытое снегом, лишь чёрная хвоя де- ревьев и такие же чёрные выступы остроконечных гранитных скал выделяются тёмными пятнами на этом белом фоне. Под ногами сухой как порох снег с крупой, будто горох под нога- ми скользит. Кругом тишина, ветка на ёлке не шелохнётся – страшная тишина, ибо она таит в себе смерть! Каждый невер- ный шаг, как и движение тела, могут оказаться последними в твоей жизни. Отовсюду: из-за каждого выступа скалы, как и с любого дерева, веяло духом гибели, отчего на душу постоянно накатывалась душевная тоска, а мысли в голове друг друга спрашивали о той нелепости, и казалось ненужности этой вой- ны. Говорить об этом даже во сне самому себе боялись: кругом уши, кругом провокаторы и стукачи. Впереди линия обороны финнов, на штурм которой ходили уже несчётно раз и всё впус- тую, оставляя после каждой такой атаки лишь поле усыпанное трупами. Каждый сантиметр площади простреливается вдоль и поперёк, и взять эту преграду можно лишь единственным спо- собом – это если штурмующих бойцов будет больше численно- стью, чем у противника имеется пуль. Дзоты и доты: к ним, да- же если бы и удалось добраться – простой гранатой не возь- мёшь – здесь нужен крупный калибр пушки; лучше бы тяжёло- го танка и прямая наводка, от навесного артобстрела пользы мало, а лучше сказать – никакой: как по воде батогом. Тяжёлый танк сюда не пройдёт: скалы, обрывы, лес и снайперы – они
везде и повсюду, порой кажется, что под каждым камнем и на каждом дереве сидит. Окоп, как и траншею не выроешь, под ногами гранит, только взрывать, потому пользуются лишь есте- ственными укрытиями. Периодами тишину нарушает артобст- рел – бризантные снаряды – это исчадие ада. Та же шрапнель только в совремённом виде. Шрапнель разрывается в воздухе, но взрыв её схожий с разрывом осветительной ракеты – на все стороны; бризантный снаряд, разрываясь над головой, при этом осколки от него все направлены строго в землю, потому в радиусе его разрыва остаётся всё иссечено осколками, будто капусту пошинковали. Единственное спасение, если удастся затесаться между скал. Перед очередным штурмом наших бойцов подкрепляют лёгкими танкетками – от них пользы, как от козла молока: двадцати двух или тридцати двух миллимет- ровая пушка, из которой только по воробьям стрелять, к тому же броня на танкетках в девять миллиметров, которую финны бронебойными насквозь прошивают.
Установившаяся, который уже день однообразная пого- да: по утрам всё в мареве морозного тумана; на время в ду- ше исчезает страх перед снайперами, но на смену ему при- ходит опасность перед егерями – лыжниками. К обеду появ- ляется над самым горизонтом багряное солнце, которое ползёт медленно по кромке скал и леса, ни на вершок не по- дымаясь, отчего с непривычки кажется, что всё время стоит утро, и день никогда не настанет. Часто в такие ранние ут- ренние часы неожиданно обнаруживали вырезанных часо- вых, а то и спавших бойцов в подразделениях. И всё это слу- чалось ночью и без единого выстрела. Финны, будто неви- димые субстанции, молча и тихо в белых маскхалатах, слов- но духи быстро скользя на лыжах, мастерски умели на ходу стрелять из своих карабинов, а приблизившись на короткую дистанцию, могли метнуть нож-финку, которая шансов ос- таться в живых не оставляла. Который день подряд артилле-
рия из дальнего тыла по корректировке через головы своих бойцов, долбят снарядами по одному и тому же месту, про- бивая тем самым проход в обороне финнов: сравнивают скальную поверхность для прохода лёгких танков, кроша бе- тонные конусы, торчащие над землёй как громадные зубы доисторического монстра. Иногда удачно угодивший снаряд в дот разворачивает бетон, показывая его требуху, отчего в сердце красноармейцев на минуту вселяется радость, – эта, гадина, стрелять уже не будет. Существовал ещё один, мо- жет быть самый страшный враг – это постоянный невыноси- мый холод. Подстерегающая на каждом шагу смерть – это абстракция: толи убьют – толи пронесёт, это ещё бабка на- двое сказала. А если и убьют, то смерть от снайпера или от бризантного снаряда настигнет мгновенно, так зачем об этом думать. Холод – вот самый главный враг! Он пронизывает до костей все двадцать четыре часа в сутки, кажется, от этой пытки скоро с ума сойдёшь; от него ни на минуту нигде нет спасенья. Костёр не разожжешь, ибо в ту же минуту прилетит снаряд. Костёр, будь это ночь или день – это ориентир для врага. Возле костра можно погреться лишь вдали от передо- вой, но туда не пойдёшь, там-то же смерть только от своих, как и здесь. С каждым днём обмороженных красноармейцев становится всё больше, их давно уже гораздо больше, чем раненных и убитых снайперами.
Ночью, когда небо морозное и ясное, когда кажется что можно потрогать его рукой – задрав голову, смотришь на звёздный млечный путь странника: на душу в такие минуты наваливается тоска и хочется выть, как это делают волки!..
Я рассказал вам всё это со слов ветерана, который про- шёл всё это, а те ордена и медали, которые он получил вна- чале, будучи рядовым красноармейцем на финской войне, а уже во времена Великой Отечественной войны сержантом: замечу вам, что таким чинам – кабы за что – орденов не да-
вали. Николай Иванович, кстати, разведчиком начав на фин- ской войне, в той должности и закончил войну в Кёнигсбер- ге. Вполне не исключено, что там, на финской войне он мог встречаться с нашим одним из героев романа политруком, возможно, немного повыше в должности: мы знаем, что на той войне он был политработником – с Судариковым Иваном Васильевичем. Жизнь иногда приносит не такие сюрпризы. Но нам это, к сожалению не суждено узнать.
Что касается Николая Ивановича, то таким людям верить можно без сомнения. Да он, собственно о своём геройстве даже намёком не упомянул. Под конец сказал лишь, что спустя месяц от начала боевых действий и бессмысленных потерь: «Мы же не дураки, чтобы до бесконечности лбы свои им подставлять. Стали воевать их же методами и получалось порой гораздо лучше, чем у них. И снайперы не хуже появи- лись, и вырезать ихними финками их же стали. Русский му- жик, как никакой другой всему быстро учится, в особенности, когда его жизнь стоит на кону…».
Почему я рассказал именно о нём?.. Прошло не так уж много времени – в мерках земных конечно. Уже в годы де- вяностые в стране стали появляться липовые «ветераны» на- купившие на барахолках орденов и боевых медалей у вете- ранов, которым на тот момент жрать было нечего, а из зана- чек только и была драгоценность – эти боевые награды:
«Один хрен не сегодня так завтра помирать, хоть не голод- ным на тот свет отправлюсь…» – сказал каждый нищий вете- ран сами себе, и понёс награды на барахолку. Знавал и я од- ного липового «ветерана», Владимиром звали, фамилию умолчим – житель города Азова. Как-то однажды, сидя за столом в кругу немалого числа людей, решил он поведать о своих былых походах на поприще славы Российской:
– В войну я служил в Кронштадте, – рассказывает он, – в казематах, где береговые орудия стоят, и фарватер к под-
ступам Ленинграда сторожат от немецких кораблей. Вот мы с тех орудий и долбили немцев. Сидим как-то в этом бункере, где орудия смотрят на море: открывается неожиданно ме- таллическая дверь с грохотом и заходит к нам в бункер сам Сталин. Подошёл этак к нам, за руку со всеми поздоровался… Дальше рассказывать этот бред не стоит, в него может
поверить разве что четырёхлетний малыш, а как я позже уз- нал – этот «ветеран», оказывается 1930 года рождения, то есть, на год начала войны ему было одиннадцать лет. Дет- ская голова, давно всем известно, что богата на всякие фан- тазии, видимо ещё от детства крепко в мозгах застряло. Но, награды в девяностые продолжал носить, чаще на пиджаке планки в несколько рядов, как у генерала. Спроси его, что и какие награды они обозначают – в жизнь не ответит. В девя- ностые можно было всё: после ПТУ – на следующий день стать профессором, а то и академиком. Утром из дому вы- шел ПТУшником – вечером домой возвратился учёным чело- веком, на худой конец – доктором наук. Для начала, хотя бы
– наук философских; там высшую математику и сопромат знать не надо – философии разные бывают, может я свою новую придумал. – Где диплом взял? – спрашивают его:
«В подземном переходе, – отвечает он, – там их на мешок продают…». Но эти-то «учёные» ладно, Бог с ними пусть ра- дуются: в голове пусто, зато диплом в кармане есть. Обидно за настоящих ветеранов и стыдно за липовых, вылупляющих- ся на свет божий ежегодно. Интересно бы знать, – когда, бу- дут отмечать столетие со дня Победы, будут ли ещё «ветера- ны» – свидетели тех событий?.. Наверное, будут.
После столь кровопролитной неудачной «Зимней» ком- пании, нет бы, вплотную заняться обучением в армии веде- ния войны в современных условиях, извлекая уроки и ошиб- ки, допущенные в ходе финской войны и не повторять их в будущем; так сделано было совсем не то, в чём нуждалась
армия. По той статистике, что была представлена властью, получалось довольно гладко, да и о ней-то слишком не рас- пространялись. Если даже брать во внимание объявленные цифры, то получается: Финнов погибло 19 тысяч, наших око- ло ста тысяч. И то не совсем лицеприятно – один к пяти. На самом деле данные о потерях запутаны и сильно разнятся в зависимости от источников. Вообще-то всё построено в от- чётности потерь примерно так: погибших столько-то; ранен- ных столько-то; умерших от ран столько-то; обмороженных и замёрзших столько-то; невосполнимых потерь столько-то. Если всё это, – сказали там на самом верху, – сложить, затем перемножить на то же число и тут же разделить всё попо- лам, потом прибавить всё остальное, затем отнять предыду- щее: то получается и живы все, и потерь-то, считай, не было. Так, одна, может две сотни тысяч – это не потери для такой большой страны. Народу в России много, ещё наплодят. На этом и закрыли тему всяких подсчётов.
Языки всем укоротили, всё засекретили, после чего ак- тивно принялись искать козлов отпущения. И с новой силой пошли репрессии. По наушничеству и доносительству: где-то, там-то, ещё на финской войне кому-то не угодил или не то сказал, или просто не приглянулся. Под этот шабаш и Иван Васильевич попал – плохо среди красноармейцев агитаци- онную работу проводил, потому и неудачи такие были. Вна- чале отправили в родные края на станцию Барятинск – на время, пока мы подумаем. Если бы спустя год не война, в лучшем случае поехал бы он куда-нибудь в район Магадана, а скорее всего в лагерь – «Пермь – 36» – этот лагерь как раз и предназначен был для тех, кто предан был партии с самого начала, а потом чем-то не угодил или случайно не то сказал.
В сорок первом, в возрасте сорока лет Ивана призовут в армию уже в качестве красноармейца, и будто в насмешку судьба его вновь отправит на Волховский Фронт поближе к
той самой финской границе. Правда, сделают послабление, служить будет при штабе 294 стрелковой дивизии; всё-таки свой, хотя и проштрафившийся. В начале февраля 1942 года тяжело раненного доставят в госпиталь развёрнутый в де- ревне Лодва, Мгинского района, Ленинградской области, а уже 11 февраля он скончался от полученных ран. Похоронен будет в братской могиле деревни Лодва. Так закончилась судьба Ивана, второго из братьев Судариковых: первых акти- вистов и комсомольцев деревни Вяжички, которые прини- мали самое активное участие в становлении Советской вла- сти в тех местах.
Деревня Лодва сегодня представляет собой на большой территории сплошной мемориал из братских могил и памят- ников погибшим войнам: сколько там их в земле лежит?.. ответить на этот вопрос вряд ли кто может – одному Богу из- вестно. Мы немного забежали вперёд в своём рассказе – по- этому чтобы рассказать о других персонажах романа вер- нёмся вновь в год тридцать девятый.
ГЛАВА 2
Благодатная провинция, к которой, несомненно, относи- лась и деревня Вяжички, как и сами жители дальних и ближ- них районов громадной страны Советов к концу тридцать девятого года вряд ли подозревали о тех событиях, о кото- рых мы вам рассказали. Газеты врали, извращали, запутыва- ли читателя, а чаще пугали. Год был на исходе: в колхозе об- разованном ещё десять лет назад в деревне Вяжички выда- вали натуроплату на каждый отработанный трудодень. Жизнь медленно входила в свою колею: многим в то время, казалось, что пройдёт ещё десяток лет и все забудут о голоде и о той нищете, которая выпирала со всех дыр. Если бы мы
смогли хотя бы мысленно посмотреть на деревню дорево- люционную, а после сравнить то, во что она превратилась, контраст явно не соответствовал бы понятиям: покосившиеся заборы с оборванными калитками и воротами, крыши дере- вянных домов с проплешинами; кругом запустение и, поду- мать можно, что бесхозяйственность. Но это вовсе не так. Тот, кто должен был следить за всем этим: прибивать, по- правлять, благоустраивать и новое подстраивать лежал в это время в земле, где-то дотлевали его останки на великом пространстве: Мазурских болот и в предгорьях Карпат, по всей южной Украине, Дону, Кубани и в Крыму. Перечислить все те места не представляется возможным по причине их множественности. Саму деревню Вяжички эта беда также не обошла стороной, потому как самых способных, самых здо- ровых и мастеровых, наконец, самых умных – все они лежа- ли там, где-то в неведомых краях.
В доме Чигарёвых среди её обитателей: Екатерины Дмитриевны и двух её дочерей Леночки и Наташеньки уста- новилось неприятное для всех молчание. Который день с небольшими перерывами мать возвращалась всё время к одной и той же теме: дальнейшей судьбы своих уже взрос- лых дочерей. Она настаивала на том, чтобы дочери уехали вслед за своими сёстрами и братом в Москву, но те, заняв неприступную позицию, стояли на своём. У Лены на то были свои причины, а младшая, может быть, по своей подростко- вой глупости следовала в рассуждениях за сестрой.
Хозяйка дома сейчас возилась у печи. Орудуя рогачом, вынимала из жерла печи свежеиспеченные буханки хлеба: расставляла их рядком на деревянной длинной лавке, сле- дом накрывая сверху полотенцами. Наконец, она управи- лась, прислонила рогач в стенке печки, уселась на краешек лавки, вытерев, краем платка пот со лба, посмотрела в сто- рону сидящей у окна Лены, сказала:
– Лена, доченька моя, вот ты постоянно злишься на ме- ня, думаешь, что я тебе зла желаю. Сама посуди, разве мо- жет родная мать желать своему кровному ребёнку зла?.. Я тебя ещё год назад отправляла к сёстрам, а ты так и не по- ехала. Как ты не можешь понять, что он тебе вовсе не пара; и я могу тебе не задумываясь назвать несколько причин это- му. И не подумай, как тебе по всей вероятности сказали, что я против этого лишь потому, что он происхождением своим не из тех, каким мне хотелось бы. Всё это чушь собачья, в особенности в настоящее время, когда мы стали давно уже как все вокруг нас обычными крестьянами, когда о всяком твоём дворянстве в прошлом лучше помалкивать. Причина совсем иная: во-первых он на год моложе тебя, и насколько я знаю по жизненному опыту и других подобных случаев – такие браки счастливыми не бывают. Муж должен быть хо- тя бы лет на десять старше жены, так всегда было, по край- ней мере, в нашей среде. Я знаю много случаев, когда муж был и на больше лет старше и жили они, дай Бог каждому так жить, но в то же время я не знаю ни одного положи- тельного примера подобного тому, который ты намерена совершить. Каждой матери хочется, чтобы её дитё счастли- вым было, так почему ты думаешь, что я враг тебе?.. Ну, вот – ты снова плакать начала…
Лена не отвечая на слова матери, смотрела всё это вре- мя в окно, скорее всего не видя там ничего, но после по- следних слов произнесённых матерью, убедившие её в том, что та продолжает стоять на своём, дала волю слезам, кото- рыми заканчивались каждый раз подобные пререкания. Ещё с весны Лена стала встречаться с Павлом Судариковым: по- началу всё выглядело словно временная шутка, которая уже к осени переросла в более серьёзные обоюдные чувства. Сейчас она, вытерев слёзы тыльной стороной ладони, пре- кратила плакать, повернулась лицом к матери и сказала:
– Хватит об этом мама, не пилите вы меня ежедневно, я вас ни в чём не виню, но и с собой не могу ничего поделать. Не настаиваю я больше на скорой свадьбе, ему всё равно весной в армию; вот вернётся, если дождусь его, тогда и видно будет. Может он после службы и не вернётся сюда в деревню, как другие парни, отслужив в армии в городах прижились. А то, о чём вы, мама, говорите, я вовсе с этим не согласна. Сейчас другие времена и заметьте – женятся на тех, которых сами выбирают, а не так как – у вас там было: на шестнадцатилетней девушке старики женились, после гор- шок всю жизнь за ним выноси и жди когда он, наконец-то помрёт.
– Лена! Ну, разве можно такое говорить, грех ведь!
– Нет!.. грех насильно замуж выдавать, а потом на людях говорить: – Ой! какая наша доченька счастливая, как ей по- везло с Иваном Ивановичем, всего много и вдоволь. А то, что доченька каждый день – ночь напролёт в подушку плачет – это тоже счастье?! Вы меня, мама не переубедите, потому лучше нам не сориться зря.
– Хорошо, будь, по-твоему, об одном лишь прошу тебя, оставайся целомудренной, не шути с этим, ибо потом уже не исправишь…
– Мама, я уже не школьница, чтобы говорить мне об этом, хотя, по правде сказать, не за горами, когда и в старых девах очутюсь. Если вы говорите, что раньше у вас там в ше- стнадцать замуж выдавали, то я, выходит, три года как про- срочила, надо было ещё в школе об этом крепко подумать.
– Вот, эти шуточки твои – совсем не к месту. Отец твой – старше меня на десять лет, но я этого никогда не замечала, тем более не сожалела о том, что вышла за него замуж.
– Мама, да насколько я помню, отец-то и дома не живёт, всё где-то по службам шляется, а ты всё одна, да одна, хо- чешь, чтобы и у меня так было?
– Нехорошо старших перебивать, к тому же я мать твоя. А что насчёт отца, так он в этом не виноват, что времена смутные настали. Жили бы как прежде в Москве, этого бы не было.
– Он же не раз тебе предлагал в Москву снова вернуться, почему не согласилась?
– Потому, Лена, что я до сих пор не верю в душе, что это всё навсегда. Там может в любой день всё снова начаться; всё власть никак не поделят, а я этого боюсь. Хватит с меня тех страхов, что я пережила за две их революции, как они это называют. А по мне – это мало чем отличается от Пугачёв- щины. Только тогда, всё то было далеко от Москвы. Прошло полтора столетия и до Москвы добралось. Жаль, что нет сре- ди нас сейчас Параньи царство небесное этой добрейшей женщине, была бы она живая, даром, что из крестьян, а ума была благородного, она бы тебе то же самое сказала.
Екатерина Дмитриевна умолкнув, поднялась с лавки, и принялась наводить порядок возле печи. Лена повернулась снова лицом к окну и тут вдруг заулыбалась и с весёлой нот- кой в голосе, выкрикнула:
– Мам, а, Мам, посмотри в окно – кто к нам прибыл! Мы ему тут все косточки промываем, а он лёгок на помине в гос- ти надумал. Мам, да иди же погляди в окно, кто к нам пожа- ловал! Пропащий наш отец своей персоной приехал. Вон гляди – бежит к порогу спотыкается, даже на ходу прихора- шивается, видно, мам, тебе понравиться хочет. Спешит как на свидание. А ты меня всё ругаешь, о себе бы лучше вспом- нила.
Екатерина Дмитриевна подбежав к окну, наклонив голо- ву в проём посмотрела во двор, но муж тем временем уже скрылся из поля обзора, а вскоре в сенях послышались его шаги. Войдя в комнату, снял шапку, стряхнул с неё на пол снег, улыбаясь приветливо сказал:
– Как хорошо после стольких дней разлуки с вами – сно- ва явиться домой: здравствуйте мои милые добрые хозяюш- ки! Не ждали?.. а я припёрся!
Наталья, подбежав к отцу, повисла у него на шее; Егор Владимирович погладил её по спине, потрепал за пышные волосы, отстранив от себя, принялся снимать с себя одежду. Раздеваясь и вешая одежду на вешалку, прибитую к стене, всё время поглядывал то на жену, то на Лену. Лицо Екатери- ны выглядело бледным, видимо ещё не придя в норму после разговора с дочерью, к тому же и само поведение – в её молчании, явном недовольстве во взгляде говорило мужу, что в доме не совсем всё в порядке. Присмотревшись внима- тельней к Лене, понял, что лицо у той заплаканное; немного помолчав, тая надежду, что жена всё сама объяснит, так и не дождавшись, теряя терпение спросил:
– Да что у вас здесь случилось, откуда вся эта хмурость на ваших лицах, а у Лены глаза все заплаканы? Поссорились никак? Катенька, чего молчишь? Вот никогда не думал, что так встретите меня. А ну рассказывайте отцу всё без утайки и как можно быстрей, а то я голодный как волк. Вот Наталья у нас самая говорливая ей и рассказывать – она это хорошо умеет, с её рассказов хоть повести пиши под диктовку.
– Ничего я не знаю, – ответила дочь недовольно, будто подводя под этим черту, – то всё меня не касается. Кого ка- сается, тот пускай и рассказывает.
После этих слов она резко повернулась и с гордо подня- той головой прошагала демонстративно в соседнюю комнату.
– Так… понятно, – сказал с огорчением Егор Владимиро- вич, – как я предполагаю, снова о делах сердечных спор идёт, и к единому мнению прийти так и не можем. И до чего же договорились, хотел бы я знать?
– Замуж выходить надумала твоя дочь и неизвестно за кого… – начала было рассказывать Екатерина Дмитриевна,
но муж, не дав договорить, уже и так понял, о чём она хочет сказать, примиряюще сказал:
– Почему ты так решила, что неизвестно? Вполне даже всем давно известно, как свет божий; парень он, лично по моим суждениям вполне порядочный и руки нашей дочери вполне достоин. Не граф, не князь, правда, но по сегодняш- ним временам это даже в пользу – жизнь спокойней будет. Отца его я прекрасно помню, каким тот был: вполне достоин тому моменту самой истории страны, ибо тогда всем хоте- лось лучшей жизни. Так в чём вопрос?
– Молод он слишком для нашей дочери; пусть хотя бы вначале в армии отслужит, – резким голосом ответила жена.
– Катя, разве ты не знаешь, что молодость – это не не- достаток, а даже я бы сказал большая привилегия. Старость – вот это и впрямь большой порок у человека. Старость хо- чешь, не хочешь – наживаешь, а молодость с каждым про- житым днём теряешь. Глупенькие вы всё-таки женщины. Из- за пустяка скандалы устраиваете: ссоритесь, плачете, сами себе жизнь укорачиваете. Так – погоревали, и хватит. Всё за- были! Я носом чувствую, что у вас тут такой дух печёного хлеба стоит; ещё, когда шёл по улице – ко двору подходил, услышал; чуть было своей слюной не подавился. Готовьте на стол. По-человечески я ел последний раз… – я уже и забыл, наверное, когда домой приезжал.
Спустя время, семья сидела за столом. Мать и дочери внимательно слушали Егора Владимировича, который в это время ел с аппетитом и рассказывал новости из Смоленска, ибо начиная с этого года, Барятинский район зачем-то от- торгли от Калуги и присоединили к Смоленской области, а в сорок четвёртом вернут всё на своё место. Егор Владимиро- вич прибыл сейчас из Смоленска.
– Представь, Катя, неделю назад прошмыгнул это я мимо вас, лишь в окошко поезда поглядел на деревню – ночью кста-
ти. Темень – ни зги ничего не видно – думаю – где они там в этом мраке? А вы, наверное, спите сладко и ни слухом, ни ду- хом не ведаете, что вашего отца мимо нелёгкая понесла среди ночи. Теперь вот обратно в Калугу. Пару дней дома побуду, и снова мотайся, как маятник. Одно дело указом передать управление части местности в другой город и совсем другое, как потом работать. Бегай за каждой бумажкой туда-сюда.
– Егор, – прервала его жена, – что слышно о той финской компании, как её в газетах называют – это не начало боль- шой войны? В деревне всякое говорят: финны, немцы – из газет так совсем ничего не понять.
– Катя, мой тебе совет – в подобных разговорах лучше не участвовать. А то кто-то, что-то сам скажет, а тебя в этих словах и обвинит. У меня ничего не выпытывай, всё равно ничего не скажу, потому что и сам ничего не знаю. Знаю я вас женщин – язык за зубами вам трудно удаётся держать. Есть раненые, а как бы ты хотела? Там, где стреляют – всегда есть убитые и раненые. На охоту идут – на зайца, к примеру, казалось со- всем мирное мероприятие, а с охоты раненого товарища на себе притаскивают, а бывает и на тот свет случайно отправят. Так то же всего-навсего охота, а тут военный конфликт.
– Вот потому я и против этого союза, – сказала жена, – ещё неизвестно, сколько это протянется, а ему вот весной в армию. Боюсь я, чтобы не получилось как у его матери Ари- ны. Сколько она с Тимофеем прожила? – по пальцам дни пе- ресчитать можно…



