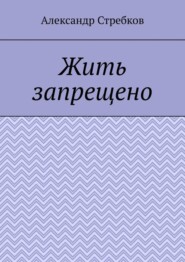
Полная версия:
Жить запрещено
суальной революции, которые провозглашали новую мораль и внедряли с помощью активной пропаганды, были государ- ственные деятели: – Карл Радек и Александра Колонтай, именами которых впоследствии будут названы улицы, шко- лы и прочие госучреждения. На первом Всероссийском съез- де союзов рабоче-крестьянской молодёжи в устав был внесён пункт с подачи Колонтай, как народного комиссара общест- венного призрения к тому же она занималась охраной мате- ринства и младенчества; на этой почве, не забыв написать не- сколько «выдающихся» работ таких как: «Любовь пчёл трудо- вых» и «Дорогу крылатому Эросу», где подробно изложила свои взгляды на половой вопрос, призывая лозунгом: «Ого- лённый, не прикрашенный любовными переживаниями ин- стинкт воспроизводства». В последующем газеты пестрили её статьями и выступлениями на публике: «Любая комсомолка должна сексуально удовлетворить любого комсомольца, как только он об этом попросит. – Говорила и писала она. – Такое возможно в том случае, если комсомолец активно участвует в общественных работах и регулярно платит членские взносы». Карл Радек стал вдохновителем общества: «Долой стыд!». Именно он обычно шёл голым во главе московских нагих де- монстрантов. По свидетельствам современников, в таком же виде принимал и гостей в своей квартире.
Александра Колонтай писала: «Такой пестроты брачных отношений ещё не знала история: неразрывный брак с ус- тойчивой семьёй и рядом преходящая связь, тайный адюль- тер в браке и открытое сожительство девушки с её возлюб- ленным, брак парный, брак втроём и даже сложная форма брака вчетвером». Троцкий писал Ленину: «Семья, как бур- жуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим». Ленин в свою очередь дал ис- черпывающий ему ответ: «И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты. Нам есть
чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят». Газета «Правда» от 7 мая 1925 года писала: «Муж моей подруги предложил мне провести с ним ночь, так как его жена больна и этой ночью не может его удовлетворить. Когда я отказалась, он назвал меня глупой гражданкой, которая не способна постичь величие коммуни- стического учения». Феликс Дзержинский являясь непосред- ственным организатором трудовой коммуны для малолет- них преступников, расположенной возле станции Болшево Московской железной дороги, где содержалось около одной тысячи подростков, возрастом от 12 до 18 лет, среди которых было более трёхсот девочек и девушек. Они проживали в совместных с юношами помещениях. Воспитатели в отчётах с восторгом сообщали: «Половое общение в коммуне разви- вается революционными методами. Смена партнёров проис- ходит по их желанию, и такие отношения отвлекают воспи- танников от противоправных действий».
Каменный век! Пещерные времена! И то, вполне веро- ятно, что в те далёкие времена все ходили в набедренных по- вязках из шкур диких зверей. Колонтай (Шурой) за глаза её называли – пройдя путь комиссарских постов, сменив мужей и любовников – на один час немерянно, которым счёта не было, к тому же вполовину моложе возраста своего, как-то умудрилась на политической арене здравствовать до глубо- кой старости. Станет первым в мире женщиной послом, после чего сменит несколько стран, исполняя обязанности посла. В отличие от своего единомышленника по взглядам на секс Карла Радека, которому крайне не повезло. Вначале его ли- шили всех занимаемых постов в правительстве, – после поду- мали: «Маловато, как-то получается…», в двадцать седьмом отправили в ссылку, в тридцать шестом в тюрьму, где по- тихому и удавили – нехрен было по улицам Москвы голым расхаживать, а дома гостей принимать, когда визитной кар-
точкой хозяина при встрече являлось причинное место. Со- временному человеку трудно представить подобный такой приём. Приходите вы в гости к своему шефу фирмы – по слу- чаю юбилея его – а сам виновник торжества, расплывшись в любезной улыбке, колыхая своими причиндалами, встречает вас на пороге, в чём мать родила. Представили?! Смелости повторить хватит?.. А это не кто-нибудь, а комиссар зани- мающий массу постов в правительстве, к тому же соратник самого Ленина. С неизменной курительной трубкой в зубах, с такой, как впоследствии Сталин расхаживал по своему каби- нету: с бакенбардами до бороды Радек был копией кора- бельного голландского капитана времён парусного флота. Оказывается, ходить по улицам голым мужикам нельзя, а вот женщинам не возбраняется. Колонтай – вначале двадцатых годов – пошла уже по посольской карьере – вовремя слиняла
– посвятив этому делу четверть века, прожив долгую жизнь, а за год до смерти Сталина сама отправилась в мир иной, чтобы Хозяину там место подготовить. То, что касается бездомных детей – этот вопрос вообще не обсуждаемый, ибо первыми кого должны были поставить к стенке – тех, кто это затеял. Плеяда, которая подыгрывала сексуальной революции до- вольно пёстрая. Начиная от поэта Маяковского, который в Симферополе участвовал в демонстрации голых женщин, гордо шествуя среди них – правда сам обнажился не полно- стью – духу не хватило или похвастать нечем было. До нарко- ма Семашко и лиц, имена которых канули безвестно в исто- рию по своей незначимости. Казалось – куда больше свобод?! НЕП (Новая экономическая политика) широким шагом зако- выляла по стране: торгуй, куй, шей, пряди и главное – воруй! Пей, ешь, гуляй, веселись, голышом по улице ходи: две тысячи лет о таком мечтали. Наконец-то – пришло! А секса – безмер- но, на сколько силушек хватит и самого желания. Говори, что в голову взбредёт, даже если это сумасшествие, и это в то вре-
мя когда после семилетней войны: Германской войны и Гра- жданской страна вся нищая и голодная. Москва в начале два- дцатых годов голода и нехватки продовольствия не испыты- вала: она в то время от жиру с ума сходила да демонстрации устраивала. Вполне возможно, что власть в чём-то подыгры- вала всей этой вакханалии, заодно выявить – кто и что из себя представляет; ибо репрессии в последующие годы перекроют с лихвой всё то, что казалось, пришло надолго, а иные думали
– на века. В Москве подсчитали за год количество внебрачных детей, оказалось половина от общего количества появивших- ся на свет. К тому же отдают на воспитание государству, а деньги нужны совсем на другие цели. Но, главное! – граждане Страны советов занятые плотскими утехами уже не желали строить социализм, не до этого им теперь. Летом 1926 года грянул скандал, страну всколыхнуло чубаровское дело (назва- ние переулка в Ленинграде), где комсомольцы и коммунисты надругались над девятнадцатилетней девушкой, которая по- лучила букет венерических заболеваний. Дело, получив глас- ность, и массовое возмущение дошло до суда: пятерых рас- стреляли, остальным длительные сроки заключения. С этого момента стали постепенно закручивать гайки – для простых смертных: «Повеселились и буде! Пора и честь знать! Закон он и есть закон – пора и о нём вспомнить…». Для Вождей можно кое-что и оставить: по мере их преданности идеям и лично товарищу Сталину. Не угодил – можно и о сексуальной распущенности вспомнить. В дальнейшем Калинин на бале- ринах помешался, а ещё чуть позже – Берия на школьницах и студентках адюльтер применять станет. Чем же всё-таки за- кончилась сексуальная революция?.. А ничем, как и револю- ция пролетарская! Надо же – у самых стен Кремля устроили нудистский пляж на берегах Москвы реки – совсем обнаглел народ! Вначале сделали платные аборты, после, совсем уго- ловной статьёй запретили их; за гомосексуализм также – уго-
ловная статья; вскоре и голышом ходить по улицам Москвы всем расхотелось, ибо не сделай то, что сделали: скатился бы народ московский ниже уровня животного.
Можно продолжать рассказывать подобную мерзость и далее, на это есть много свидетельств, но мы думаем, этого – выше сказанного вполне достаточно. Из всего этого вывод – выкрики от народа: «При коммунизме – как спать будем… все под одним одеялом?!» – актуальны, справедливы и взяты не на пустом месте. Читатель спросит, – для чего выше сказано? Отвечаем, – чтобы отделить зёрна от плевел. Высыпав на стол зёрна вместе с шелухой: ребром ладони – зёрна в одну сторо- ну плевела в другую, затем наклонившись, набрав в грудь как можно больше воздуха сдуть шелуху со стола. Простой народ в своей массе, а среди народа этого – Тимофей и Иван – это зёрна. «Вожди» – затеявшие смуту и нагло обманувшие народ
– плевела! Михаил Калинин – балерины, Берия – школьницы; остальные, когда жена надоела – в лагерь её для заключён- ных. Исключая из списка так называемых «вождей» – Климен- та Ворошилова – любил он видимо сильно свою жену – ос- тальные все поголовно жён в ад отправили – в лагерь жизнь доживать. Ну, а жена Сталина застрелилась, а скорее помогли. Вот истинное лицо лидеров большевиков! Тут, с этой сексу- альной революцией совсем было забыли напутствия Ленина: что первейший-то враг идеям коммунизма – это попы и все поголовно всякие священники – за них и взялись по второму кругу. Кого – на Соловки, кто-то чуть дальше поехал – на край- ний север в глухомань тайги; кому-то и пуля в затылок; свя- щенники-то первыми забили тревогу по поводу сексуальной распущенности. Нечего было гавкать и напоминать о себе, гляди и не вспомнили бы о вас.
Но, к нашим героям романа, как и к миллионам простых граждан, Советской России всё то, о чём мы рассказали вы- ше, ровным счётом никакого отношения не имело потому
как, они наивно продолжали верить – во всю ту утопию, ко- торую им втемяшивали в уши. Москва, как и в прежние вре- мена, являлась государством в государстве и жила далеко не по тем законам и правилам, что весь народ российский.
* * *
В конце января 1924 года Иван Васильевич отбыл в Москву на похороны Владимира Ильича Ленина. Всенародное горе по- истине было велико: ибо испокон веков простой народ при- учился верить, надеяться и терпеливо ждать праведного мило- сердного Царя-батюшку, а как он там называется – это дело уже второе, главное-то: обещал много хорошего и справедли- вого. Потому плакали и рыдали искренне и без всякой на то фальши. Ленин, по сути, в истории ещё долго будет оставаться личностью спорной: одиозной, противоречивой и непредска- зуемой в прошлом, если бы, конечно Бог дал ему пожить дольше – имеющий как многочисленных своих сторонников, так и противников. Но расстреливать царских детей в самом что, ни на есть начале своего правления, всё-таки не стоило бы! Взяв на себя столь великий грех, и сам долго не задержался на этом свете. Как говорят: «За такие страшные грехи – туда ему и дорога!». И сколько бы мы не листали историю человечества за все его тысячелетия существования, мы не найдём там случая чтобы на вершине власти хотя бы какое-то время находился человек с кристально чистой душой и такими же поступками. Подобных отродясь никогда не существовало! Пришёл к власти с благими намерениями, а получилось, как и у всех. Короля как говорят – делает свита, какие люди тебя окружают, таким и ты станешь – в конечном счёте: «Отправился в лес дровишек на зиму нарубить – трудился в поте лица – к концу оглянулся:
«Ах!.. сколько же доброго леса я загубил!..».
У Ивана и его жены Арины в тот год родился мальчик: назвали Анисимом – в будущем станут называть почему-то – Сеней. Ребёнок появился на свет здоровеньким, сильным на ручки, что с первых месяцев его жизни замечено было роди- телями и уже в годик подтягивался на ручках как акробат. У Чигарёвых Екатерины и Егора в тот же год родилась девоч- ка – Натальей названа была. Паранья как-то сказала Кате, что видимо тогда идя из церкви, она не напрасно зашла погос- тить к Арине, потому Бог и наделил вас в один год детишка- ми. Так что, хотя год в Советской России и был траурным: пе- чалились, что мир покинул возмутитель российского спокой- ствия – по своей воле или кто помог – это лишь Богу извест- но, но многие этот год прожили не зря. Простые люди радо- вались новым, появившимся на свет малышам, а «Злодейст- во», тем временем старалось обрядить себя в одежды гени- альности и праведности, и народ продолжал верить этому. Сравнить подобное можно с Новогодней ёлкой. Срубили её бедную в лесу. Втащили в дом: обрядили, огни на ней за- жгли, а детям – за живую ёлку выдают и те глупышки верят. Но в песне взрослые всё-таки проговорились: «В лесу она росла!.. красивая и стройная была!..».
Судьба у Екатерины Дмитриевны и у Арины была на то время схожей: как у одной муж нёс службу в отрыве от се- мьи, так и у другой. Ивана Васильевича судьба партийного работника кидала с места на место – туда, где постоянно по- являлись прорехи во власти, которые возникали одна за дру- гой и, требовалось всё восстанавливать, иной раз с самого что ни на есть начала. Прибыл в пункт назначения – «А», а там о Советской власти и слыхом – не слыхали, а если, что-то и было в самом её начале, то тут же прикидываются все ду- рачками: «Чё-то, о таком не слыхали, – говорят они, – это… никак царь с царишкой новое что-й-то придумали? Нам-то всё равно… лишь бы рожь родила да дети скарлатиной не
болели…». Начинаем создавать Советскую власть. Пока река спокойно несёт свои воды – туда, куда ей надо – до тех пор она красива, величава и много пользы от неё. Перегороди её и получишь множество прорех, а то и вовсе реку угробишь. Народ – это река и с ним нужно плыть по течению. Егор Вла- димирович тоже на месте не сидел: часто отправляясь по служебным делам в столицу и задерживаясь там – на неде- ли, а то и на целый месяц. Нашим героям, в то нелёгкое вре- мя, конечно, было не до философии. Иногда, на досуге или перед сном многие задумываться стали, что не в ту сторону гребём, а то и против течения. Жизнь шла своим чередом, ибо время не остановишь: меньшие дети подрастали, новые появлялись на свет. Если Екатерина Дмитриевна решила на этом поставить точку и в силу своего возраста больше не ро- жать, то у Арины – девушки ещё молодой, вслед за Сеней детишки посыпались как горох из дырявого кармана. В три- дцатом году родился ещё малыш, которого Колей назвали, а через два года Бог подарил девочку; может быть, потому Марией и назвали – в честь святой девы Марии, хотя и не католиками были.
На смену всяким революциям пришла – «Коллективиза- ция» – вначале добровольная, а вслед за ней сплошная при- нудительная. О ней рассказывать мы не станем, потому как, она ничем не отличалась от тех порядков и условий, которые происходили на всём пространстве необъятной страны Сове- тов – мы об этом ярко рассказали в романе: «Курай – трава степей». Различие лишь было в том, что в Вяжичках и раску- лачивать-то было не кого. Кругом одна беднота, из которой и создали колхоз. Раньше жили бедно, а теперь стали ещё на несколько порядков бедней: если раньше хоть какие-то были люди зажиточные в среде деревенских, то теперь и мило- стыню выпросить не у кого – зато все равны! Если бы не то продовольствие, что периодами привозилось своим семьям
Иваном и Егором, то неизвестно чем бы они и детей прокор- мили. На год тридцать второй, как завершающего периода коллективизации в семье Чигарёвых из пятерых детей в де- ревне с Екатериной Дмитриевной оставалось всего двое са- мых меньших: двенадцатилетняя Лена и Наталья восьми лет. Троих старших Егор Владимирович увёз в Москву и определил на учение. Самой старшей Полине на тот момент исполнилось уже двадцать; замуж она выйдет поздно уже перед самой войной за Григория Силантьева, у которого был ещё меньший брат, ставший впоследствии известным композитором. Уже после войны в сорок седьмом году у Полины родился сын – Анатолий, который и станет единственным ребёнком в семье Силантьевых. Полина проживёт долгую и, наверное, счастли- вую жизнь; о том – посещала ли она и её сёстры с братом Иваном деревню Вяжички уже после того, как Екатерина Дмитриевна окончательно перебралась на жительство в Мо- скву к детям, мы сказать не можем, ибо таких данных у нас нет. Ефросинья, выйдя замуж, детей так и не заимеет, так проживя жизнь вдвоём с мужем. Иван уйдёт в сорок первом на фронт ещё не женатым, с войны вернётся без ноги, и про- живёт всю жизнь в одиночестве. Природа, словно компенси- руя этот недостаток у старших детей Чигарёвых малостью по- томства, с лихвой наградит детьми двоих самых меньших: Елену и Наталью, но об этом мы расскажем чуть позже.
У Арины на то время дети были ещё маленькими, лишь самому старшему сыну Павлику исполнилось одиннадцать лет: Анисиму всего восемь, Коле два годика и в том же году родилась Мария. Деревенская жизнь пролетает столь неза- метно в особенности в летнюю пору даже тогда, когда она эта жизнь полуголодная и подвержена тяжёлому крестьян- скому труду. К восемнадцати годам Павел, выучившись на тракториста, что в те времена считалось престижным, уже зарабатывал свои трудодни в колхозе, внося тем самым леп-
ту в благосостояние семьи. Стояла осень года тридцать девя- того года. Иван Васильевич уже третий месяц как не подавал о себе вестей. Вначале Арина думала, что его куда-то далеко отправили по службе, но когда в газетах скупо стали про- скальзывать сообщения о каком-то финском военном кон- фликте, названной впоследствии: «Зимняя – компания», она стала подозревать, что Иван вероятно там и находится. В тот год Арина была в положении и в ноябре родила мальчика, которого, как и договаривались с мужем, назвала в честь де- да – Василием. Может быть, если бы не тридцать девятый – а за ним последующие военные годы, то дети появлялись бы и дальше, но рок всегда неумолим. Уже наступила зима, а от Ивана ни весточки, и лишь в январе она получила от него письмо, в котором он кратко писал, что жив, здоров, нахо- дится на службе по заданию партии.
Эта малоизвестная война, о которой станут больше по- малкивать, чем говорить обошлась стране большой кровью; и хотя, так называемая: «Линия Манергейма» была всё-таки преодолена, не считаясь с потерями для Красной Армии, и наступление её продолжалось на Хельсинки, пришлось бы- стренько заключить с Финляндией мирный договор. За спи- ной белофиннов, как их тогда называли, по сути, стояла на- цистская Германия – это была проба сил ещё не окрепшей молодой республики Советов. По праву – финнов отогнать подальше стоило тогда, чтобы не подглядывали в дверную щелку, и потому как единственный на Севере незамерзающий порт Мурманск и сами окраины Ленинграда повергались большой опасности с их стороны. В противном случае, в сорок первом не удержать бы нам ни Ленинграда, ни Мурманска с незамерзающим портом, который на протяжении всей войны исполнял функции доставки грузов от союзников и являлся основной базой Северного флота. Но отгонять финнов с окра- ин Ленинграда надо было быстро и жёстко. Так вот и делай
людям добро: Ленин финнам и полякам дал государственную самостоятельность, которой они не имели при Российской империи, тем самым приобрёл новых врагов по соседству. Ельцин Советским республикам тоже предоставил государст- венную самостоятельность – результат на лицо…
Можно перелопатить всю литературу включая саму Ис- торию времён СССР, но о финской войне, если и найдём что-то, то не более пару строк, словно её и не было: «Летом 1940 г. Карельской АССР были переданы территории, пере- шедшие к Советскому Союзу по советско-финляндскому до- говору…». Вот и вся война, а о ста тысяч, по другим сведени- ям во много больше погибших наших воинов – ни слова. По большому счёту она была необходима, но не такой, же ценой – в сотню тысяч погибших, раненных и обморожен- ных. Эта так называемая «победа», о которой предпочитали помалкивать, по праву учитывая огромные потери, явилась больше поражением, чем победой. К зиме тридцать девято- го года командный состав в Красной армии основательно подчистили репрессиями, а, как известно – всякому ремеслу за день не научишься, потому и брали всё на-авось – да на
«Ура!». Линию укрепления: «Манергейма», по праву можно считать неприступной. Прежде всего, она была необычна, если сравнивать её с общепринятыми понятиями. Там не было сплошной линии траншей и окопов, многорядных за- граждений колючей проволоки, они если и присутствовали то только в отдельных местах, не было многого того, что ра- нее было на подобных цитаделях обороны.
На первом месте там являлся это сам естественный ланд- шафт, как нельзя лучше подходивший для обороны: скалы, покрытые хвойным лесом и под ногами тот же камень – в землю зарыться не получится. Пока выроешь окоп – два- дцать раз снайперы успеют убить. Как дополнение к скалам, на всей протяжённости линии обороны, где местность была
более, менее ровной: в скальный грунт были вмонтированы железобетонные конусы – препятствие, через которое не то, что танк, человек с трудом пробирался. Каждый квадратный метр простреливался без надежды на то – кому-то выжить. На всём протяжении укреплённая линия состояла из дзотов и дотов, каждый из которых со стороны из выгодных секто- ров и точек обстрела охранялся снайперами. Так что о том, чтобы подобраться к доту, проскочить в его мёртвую зону обстрела, можно было навсегда забыть. Финские снайперы, состоящие в основном из охотников, стреляли без промаха не только днём, но и ночью когда светит луна.
Когда-то, ещё в годы шестидесятые лично я был близко знаком с человеком, который прошёл всю эту трёхмесячную финскую войну, в то время он находился на срочной службе в армии, где в самом конце этой войны был ранен, может пото- му и жив остался. Вслед за ней протопал дорогами Великой Отечественной: с первого дня – до последнего, закончив её в Кенигсберге и тоже по ранению. Этим человеком был Писанко Николай Иванович: 1918 года рождения, родом он из села Пла- тоно-Петровка, где и прожил всю свою жизнь – там и похоро- нен. Село это расположено в шести километрах от города Азо- ва, считай, что в пригороде. Николай Иванович был отцом мое- го школьного товарища и друга юности. Сам по себе он человек был немногословен: рассказывать что-то о войне не любил – слова не вытянешь. Собственно, он мало чем отличался от тех, в то время ещё многочисленных и здравствующих фронтовиков
– замкнутые какие-то они все были, к тому же наград не люби- ли носить. Я даже не знал, есть ли они у него эти награды и сколько их. Год 1965 – этот год для фронтовиков стал первым, к тому же юбилейным, когда официально был введён праздник День Победы – 9 мая; впервые была выпущена юбилейная ме- даль двадцатилетия Победы над Германией, которую вручили всем её участникам. К этому дню наша школьная самодеятель-
ность готовила уже целый год постановку спектакля в сельском клубе. Названия пьесы уже не помню. По сюжету пьесы: там рассказывается, как сразу после окончания войны полковник Советской армии возглавляет комиссию по возвращению со- ветских детей на Родину ранее угнанных немцами в Германию. Эти дети, находясь в концлагере, попали в американскую зону оккупации. Американцы неохотно отдают детей и тайно выво- зят их за океан. Случайно этот полковник встречает свою дочь, и она, признав своего отца, кинулась ему на шею!..
Главная роль полковника досталась мне. И спектакль про- шёл на ура, недаром мы его целый год готовили. Женщины в зрительном зале даже плакали, и единственное что не совсем соответствовало постановке на сцене, так это роль дочери – равная по возрасту отцу; как не пытались подобрать на эту роль девочку из младших классов, так и не смогли – слишком роль была сложная и текста много. Остальное всё получилось – да- же не предполагали такого аншлага. Мне, на роль полковника: подогнали, перешили по моему росту парадную солдатскую форму, в то время солдатские парадные кителя мало чем отли- чались от офицерских времён войны. Встал вопрос о наградах, которые по сценарию крайне необходимы были, и должны ук- рашать грудь полковника, к тому же орденов и медалей долж- но быть много. Вот тогда я и обратился к Николаю Ивановичу. Его жена Таисия вначале воспротивилась, причину сказать не могу потому, как не знаю, но дядя Коля коротко лишь сказал, – отдай! – Вот тогда только я узнал – сколько их у него. Его жена Таисия вынесла жестяную квадратную коробку: красивая такая, разрисованная – из-под чего она сказать не могу, главное что большая. Открыла: на мягкой подушечке в два слоя лежали на- грады… – когда мне на китель прикрепили все в том порядке, в каком положено вся грудь получилась, увешана наградами. Для подростка с его фигурой – как бы многовато было: долго мудрили, размещая их туда-сюда, пока, наконец, не пришли к
единому мнению. По памяти назову только те, которые точно помню. Два ордена – «Красной звезды» и ордена – «Отечест- венной Войны» – степеней не знаю, этих тоже два было. Два ордена на планке с Георгиевской лентой, один из них как пом- ню – орден «Боевого Красного Знамени» и две медали – «За Отвагу», медали – «За взятие Кенигсберга» и, «За Победу над Германией», остальных, к сожалению не помню. Этот иконо- стас я надевал три раза: первый раз на генеральной репетиции спектакля, второй – на первом спектакле 9 мая, и третий раз в том же году на Новый год нас попросили сыграть на сцене его ещё раз. Надевая на себя китель с наградами со мной что-то во внутри происходило, я – словно пьянел: был чрезмерно возбу- ждён, и вообще всё было довольно странно… – будто магия какая-то. Мне казалось, что я сейчас полечу – просто мистика – то, состояние души и внутреннего самочувствия: как тогда би- лось моё сердце – словно у воробья и казалось, я слышу его. Всё это запомнилось на всю жизнь; прожив немало лет, сколь- ко я не вспоминал больше подобного чувства так никогда и не испытал. Вот что такое боевые ордена и медали! Боевые на- грады, прошедшие на груди их владельца бои и сражения: впи- тывая, насыщаясь всей той информацией, которой пронизано было всё вокруг пространство, а вместе с ним и те чувства сол- дата, бушевавшие в нём самом. Под той гимнастёркой, на ко- торой были закреплены награды и прикрывали грудь его, слу- шали стуки сердца и считывали мысли воина, когда он шёл в штыковую атаку. Вполне не исключено, что потому и спектакль такой удачный получился. Возвращая награды, я чувствовал какую-то тягу к ним: крайне не хотелось с ними расставаться. Пока тётя Таисия аккуратно укладывала их на место я стоял сзади и через её плечо с сожалением наблюдал за её руками, будто расставаясь с чем-то живым и сердцу дорогим…



