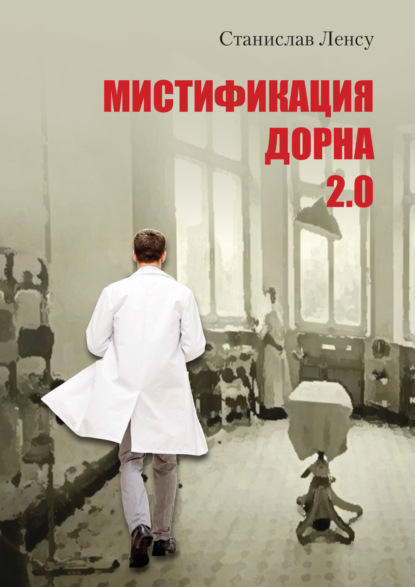
Полная версия:
Мистификация Дорна. Книга 2
Замотал коробку в тряпицы и прямиком на станцию. А там уже паровоз дымит, состав вот-вот с места стронется. Я ему кричу, мол, какое такое дело? А он только рукой махнул.
Травников замолчал, потом со вздохом добавил:
– Состав-то в город отправился. А с утра телеграмма. Всё и сложилось.
Будто выговорившись до конца, он успокоился и, понуро склонив голову, присел, погружённый в произошедшие накануне события.
Я тоже молчал, сражённый услышанным. Информация из газет или из писем о событиях, пусть потрясающих наше воображение, но произошедших, как нам кажется, где-то вдали, будто в других мирах, действует на нашу психику гораздо с меньшей силой, чем те, свидетелем которых вы являетесь здесь и сейчас.
Вот и теперь, думая о случившемся, я ужасался и отказывался верить в реальность преступления, совершённого известными мне людьми. Этого Семёна Никифорова я встречал не раз, будучи в аптеке на Успенской улице и беседуя с аптекарем Ильёй Петровичем Кёлером – опытным и искусным провизором. Помощник его производил на меня впечатление аккуратного и знающего своё дело молодого человека. Он нередко удивлял меня глубиной и точностью знаний химических превращений. Перед внутренним моим взором возник худощавый, невзрачный юноша в белом, под горло, халате – Сеня Никифоров. Я невольно посмотрел на Травникова, крупного и, вероятно, сильного, зрелого мужчину.
«Как Никифоров мог отшвырнуть такого дядьку? – задался я вопросом. – Впрочем, – тут же ответил я самому себе, – хорошо известны факты, когда люди небольшой физической силы в состоянии аффекта могут поднимать предметы, тяжелее их самих в несколько раз».
– Вот что, голубчик, – вернул я Травникова к действительности, – ступайте домой, отоспитесь. А потом непременно ступайте в полицию.
Травников как-то странно дёрнул головой и снова впал в истерику:
– Я не доносчик какой-нибудь, не наушник! Пусть сами разбираются, ищейки царские! Ну, в самом деле, Евгений Сергеевич! Я не Иуда какой! Их – в казематы, на каторгу, в кандалы! А я? В охранку?! Чего ещё изволите, Ваше благородие! Это низко!
– Чёрт возьми, Иван Фомич, – я дал волю своему гневу, – что вы чушь мелете?! Из-за ваших, как вы их называете убеждений, убили людей! Понимаете? Нет таких идеалов, из-за которых можно людей убивать! Не война ведь! Да и война, какая она ни на есть праведная, она – вина и проклятье для всех людей!
– Ах, Евгений Сергеевич! – запричитал телеграфист снова. – Душа разрывается! Лучше уж застрелиться или удавиться, чем у жандармов в прихвостнях оказаться.
– Ну, хватит! – я легонько хлопнул ладонью по столу. – Хватит! Идите спать! С жандармами я разберусь. Только имейте в виду, на суде вам всё равно придётся выступать.
Травников поднялся и пошатываясь направился к выходу. В дверях он поворотился.
– Евгений Сергеевич, – заискивающим голосом попросил Иван Фомич, – вы игрушку эту сберегите. Очень мне нравятся такие безделушку. Слоновая кость, перламутр всякий. Опять же, будет что на кон поставить.
В это время со двора донеслось громыхание подводы – привезли покойницу.
* * *Занеся перо над чистым листом бумаги, чтобы поведать читателю о ходе дальнейших событий, я остановился, обнаружив незнакомое доселе сомнение. Я обеспокоился тем впечатлением, какое мои записки могут произвести на читателя.
Скажем, описание небесной лазури или упоительного пения лесных птах, помимо единственного прибытка – благосклонности цензора, наверняка, вызовет у читателя скуку, а иного заставит досадливо поморщиться. Читатель ждёт, что вот-вот начнётся действие, прозвучит «зачин» повествования, но автор вместо этого «кормит» его долгим описанием осеннего неба или дотошно рисует портрет проезжающей мимо барыни под кружевным зонтиком. Да к тому же, он уже где-то всё это читал: то ли в дамском журнале, то ли в отрывном календаре. И оттого, что не может вспомнить, где он это читал, ещё пуще досадует.
Начиная описание врачебного исследования героини моей, Суторниной Августы Михайловны, снова нахожусь в некотором недоумении. С одной стороны, она как бы не совсем героиня, поскольку мертва, но остаётся ею, как немаловажная фигура для понимания последующих событий. С другой стороны, мой профессиональный долг призывает в описании держаться слога лаконичного и протокольного. Но не рискую ли я фраппировать читателя и тем самым невольно принудить его отложить чтение или вовсе от него отказаться? Теряясь в разрешении всех этих противоречий и думая, как их обойти, решаюсь вовсе их не обходить.
* * *Итак, вернёмся к повествованию. Войдя внутрь мертвецкой, я мельком огляделся. Под тяжёлыми нависшими сводами посреди чистого помещения располагался длинный мраморный стол. В дальней стене была устроена низенькая дверь в ледник. Лука – молчаливый и угрюмый старик, смотритель и одновременно санитар – поджидал меня, сидя на низком табурете возле ледника. При моём появлении он встал и, тяжело ступая, подошёл с клеёнчатым фартуком в руках. Облачившись в него и надев нарукавники, я приблизился к телу.
Оголённая мёртвая плоть давно не вызывала во мне никаких чувств, кроме сосредоточенности исследователя. Быстрым движением я рассёк ткани и, достигнув брюшной полости, извлёк необходимое количество содержимого желудка. Перепоручив приготовление для осмотра остальных полостей санитару, я отправился разводить щёлочной дистиллят.
С помощью сульфат железа я запустил цепь химических реакций, целью которых было получение так называемой «берлинской лазури» – железистого соединения синильной кислоты. Обнаружение её свидетельствовало бы о наличии в желудке убитой смертельного яда. Однако раствор не хотел окрашиваться в синий цвет. Не скрою, держа перед глазами пробирку, я несколько торжествующе хмыкнул, отнесясь, конечно же, к суждениям Николая Арнольдовича как к поверхностным.
Удовлетворённо записав заключение об этой реакции, я взялся за привезённый вместе с телом сахар со стола убитой. Разумеется, менее всего я ожидал, что белые осколки, взятые из сахарницы, что-то мне продемонстрируют, но тем не менее скрупулёзность в таком деле – залог недопущения ошибок. Рассматривая в увеличительное стекло колотый сахар, я обратил внимание, что вокруг небольших его кусков лежал как будто бы тот же сахар, но в виде песка. Я выпрямился и в задумчивости потёр виски. Головная боль, словно встрепенувшись, снова запульсировала в затылке.
– Барин, – прогудел неожиданно голос Луки, – воля ваша, не могу больше: башка, что твой пузырь, не ровен час лопнет!
Я отпустил Луку, и тот пошатываясь вышел прочь. Я же продолжал: пинцетом ухватил несколько белых кристаллов и опустил их в пробирку с водой. Затем повторил то же, что проделал с содержимым желудка. Я даже не удивился, когда раствор окрасился в синий цвет – явное свидетельство, что вместе с сахаром лежали кристаллы цианида.
Пульсирующая боль в голове переместилась от затылка к темени. Меня замутило. Я схватил находившуюся под рукой стеклянную ванночку и накрыл ею коробку с сахаром. Стиснув голову я поплёлся к выходу толкнул дверь и выбрался на свежий воздух. Несомненно, мертвецкая была насыщена парами синильной кислоты. Они образовались при окислении кристаллов цианистого калия на воздухе. Такая же история приключилась в комнате с убитой. От этого, а вовсе не от наливки, разболелась голова у Митькова, а у старика-санитара от долгого пребывания в замкнутом пространстве с отравленным воздухом голова уподобилась «пузырю», грозившемуся взорваться. Кстати, оттого и мёртвые мухи на блюдце и чашке покойной.
Изрядно проветрив морг, оставив двери и окна открытыми, я приступил непосредственно к осмотру погибшей. Тщательное исследование не принесло никаких результатов. Другими словами, никаких признаков насильственной смерти при осмотре внутренних органов я не обнаружил. Как же погибла госпожа Суторнина? Я упоминал, что, будь вместо сахара в вазочке один сплошной яд, это не было бы фатально, а привело бы к тяжёлому, но не смертельному отравлению. Тем более, на это ушёл бы не один час, и барышня, почувствовав головную боль и тошноту, попыталась бы выбраться из комнаты. Но её внешний вид, зафиксировавший последние мгновения жизни, говорил о молниености наступления смерти.
– Чем порадуете, доктор? – раздался за моей спиной голос Митькова.
* * *Я попросил ротмистра подождать на улице, пока я сниму фартук и нарукавники. Выйдя, я обнаружил его сидящим на лавочке с теневой стороны. Он привалился спиной к гладким каменным бокам стены морга. Вид у него был утомлённый. Я коротко рассказал о результатах своего исследования и осмотра тела. Митьков расстегнул ворот мундира и стал обмахиваться платком.
– Ну что ж, Евгений Сергеевич, пока мы никуда не про двинулись. Конечно, причины таинственного нашего с вами недомогания раскрыты, а вчерашней наливочке вышло полное оправдание!
Он кряхтя встал и прошёлся, разминая ноги.
– Однако, дорогой Евгений Сергеевич, расследование топчется на месте. Мы по-прежнему не знаем, от чего умерла Августа Михайловна.
Я расстроенно кивнул, достал портсигар и закурил. Ротмистр остановился перед мной, его взгляд словно буравил меня.
– Скажите, известна ли вам госпожа Веляшева Елизавета Афанасьевна?
Не скрою, вопрос застал меня врасплох, и я замер с приоткрытым ртом и поднесённой к губам тлеющей папиросой.
– Да-с, – выдавил я из себя, – знаком-с.
– Соблаговолите пояснить, господин доктор, – голос его неожиданно зазвучал строго, – где, когда и с какой целью вы свели знакомство с госпожой Веляшевой?
Я уже взял себя в руки и с ледяным спокойствием ответил:
– Да, Ваше Высокоблагородие, я знаком с Елизаветой Афанасьевной, но о месте и времени этого знакомства у меня нет никакого намерения вам докладывать. Это касается лишь госпожи Веляшевой и меня. И никого более! Если вы учиняете формальный допрос, то извольте соблюдать правила судопроизводства прежде, чем представлять меня к следствию.
Митьков постоял, покачиваясь с пятки на носок, потом заглянул за угол и, удостоверившись, что двор пуст, продолжил:
– Полноте, Евгений Сергеевич, дело очень серьёзное, а вопрос мой не праздный. Оставьте вы изображать здесь оскорблённую невинность. Тело госпожи Суторниной обнаружено в доме, в котором до недавнего времени проживала Елизавета Афанасьевна, и вам это хорошо известно.
– Однако ж она съехала вот уже как неделю с лишком! – поспешил я возразить и тут же отругал себя за несдержанность. Своим ответом, а пуще точным сроком отъезда, я давал ротмистру отчётливо понять о своём участии в судьбе Лизы.
Митьков молча разглядывал меня с тем неприятным любопытством, которое обыкновенно выказывают полицейские при задержании подозреваемого.
– Евгений Сергеевич, – приглашая меня присесть, он опустился на скамью, – вы человек недвуличный. Я это вижу. Вы будто из другой эпохи. Хотя думается мне, что и в другие времена вам бы жилось непросто. Извольте отвечать.
Я не допускал мысли, что Лиза как-то связана с трагедий этой ночи, но интерес жандарма смутил меня, и я заколебался. Как? Допустить этого сыскаря в мир моих нежных воспоминаний о Лизе?! Нет! Пусть довольствуется тем, что известно половине городка.
– Что ж, извольте, – начал я с неохотой, – мы познакомились с Елизаветой Афанасьевной в Ялте в начале лета, то есть месяца два тому назад. Она брала морские и солнечные ванны. У меня же в Ялте были дела. Ничего особенного. Встреча коллег. В одном из домов на званом ужине мы с Лизой… с Елизаветой Афанасьевной познакомились. Наше знакомство было… скажем, дружеским. Сознаюсь, некоторое время я питал надежду на другие, более, хм… на другие отношения. Однако ж симпатия моя к Елизавете Афанасьевне не нашла взаимности. Более того, с какого-то момента моё внимание стало ей в тягость. Собственно, это и послужило причиной её отъезда отсюда.
– Приходилось ли вам бывать в доме госпожи Веляшевой?
– Нет-с, не довелось. Елизавета Афанасьевна дала мне понять, что дружеские отношения не должны переходить определённую грань, которую общественность может расценить превратно. Разумеется, я не настаивал. Но, я не понимаю, – добавил я раздражённо, – какое касательство к делу учительницы имеют наши отношения с госпожой Веляшевой?
Жандарм слушал и одновременно чертил прутиком на земле замысловатые фигуры. Потом посмотрел на меня. Взгляд его весёлых глаз был ясен.
– К вашему сведению, Евгений Сергеевич, – его голос был участлив, – госпожа Веляшева до своего отъезда снимала этот дом совместно с госпожой Суторниной.
Он помолчал, продолжая меня разглядывать, и голос его стал холоден.
– Льщу себя надеждой, что ваши личные отношения с госпожой Веляшевой никак не отразились на вашем усердии по установлению причин смерти учительницы. Точнее, их неудавшемуся поиску.
Подозрение и тон, выказанный при этом, были настолько оскорбительными, что я вскочил, заливаясь краской гнева.
– Вы, господин жандарм, не смеете делать такие замечания!
– Смею, смею, Евгений Сергеевич, – голос Миткова звучал неожиданно устало. – Вчера у губернского театра взорвали бомбу. Есть убитые. Понимаете? Люди шли в театр. Бум! Смерть, горе для родных, сиротство для детей, – он помолчал. – Есть все основания полагать, что взрыв устроили эсэры.
– Кто? – переспросил я в недоумении.
– Госпожа Веляшева, – словно не слыша моего вопроса продолжил ротмистр, – состоит в запрещённой властями партии социал-революционеров, – и, вспомнив обо мне, пояснил: – Эсеров. Знаете, я уверен, теракт и смерть учительницы как-то связаны. Мне надобно разъяснить как? Для этого, господин доктор, мне нужно знать причину смерти госпожи Суторниной. Отыщите эту причину как можно скорей, Евгений Сергеевич. Это ваш долг перед властями и ваше служение Отечеству.
Я почти не слышал его, кровь стучала в моей голове. Постепенно, сквозь гулкие удары сердца стала проясняться мысль – необходимо сообщить ротмистру о визите нервного телеграфиста. Но я тотчас же отогнал её. Как? Мне сотрудничать с охранкой?!
Однако ж я вспомнил, как несколько часов тому назад сам стыдил телеграфиста за чистоплюйство. Как же быть? Передать наш с ним разговор или просто отойти в сторону и не пачкать себя этой политической интрижкой? А Лиза?
Какое-то время во мне происходила нешуточная борьба между чувством гадливости из-за того, что я в чём-то помогаю жандармам (осмотр тела и заключение о смерти в интересах следствия – это другое!), и страстным желанием выгородить и защитить Лизу от грязных подозрений. Наконец я решился. Признание телеграфиста натурально снимет с неё всякие подозрения. Пусть Травников сам обо всём поведает жандарму: о помощнике аптекаря, о находке возле железнодорожной насыпи, о… Жандарм непременно определит всё, что нужно!
– Травников? – удивлённо переспросил Митьков. – Телеграфист? Хм…
Он посмотрел на меня, словно увидел впервые, потом развернулся и пошёл со двора.
* * *Удаляющаяся фигура ротмистра пропала в колеблющемся мареве нагретого воздуха. Такое же марево в это лето витало и над черноморской гладью. Я погрузился в воспоминания о Ялте, о встрече с Лизой.
Нашей встречей я был обязан своему студенческому приятелю Исааку Альтшулеру.
С ним мы сошлись ещё будучи студентами Московского университета. Он не соответствовал своему имени, наоборот, часто бывал задумчив, иногда погружался в уныние. Однако ж меня он привлекал живостью мысли, открытым, мягким характером и умением, не навязывая своего миропонимания, делать так, что все, включая и бесноватых поклонников господина Пуришкевича, уважительно относились к его мнению. Мне трудно судить, чем я расположил его к себе, но в сущности это и неважно.
Окончив курс университета, он уехал в Торжок и пропал из моего поля зрения. По прошествии нескольких лет я получил от него письмо, уже из Ялты, куда он звал на представление вновь открывшегося Ялтинского благотворительного общества. Я не мог не откликнуться на его приглашение, поскольку речь шла о помощи больным туберкулёзом. И вот я здесь, в Ялте. Пыль на улицах ещё не была столь докучной, как это бывает в разгар лета, и город был свеж, зелен и полон цветения.
Мы обнялись с Исааком, и он проводил меня в обширную залу, где познакомил с самоотверженным зачинателем помощи туберкулёзникам – с доктором Дмитриевым. Затем, отведя меня в сторону, Альтшулер сообщил, что о встрече со мной горячо просил, даже настаивал, другой наш коллега, известный литератор, как и Дмитриев, приехавший на жительство в Ялту из-за болезни лёгких. Он говорил, что непременно хочет познакомиться с доктором Дорном, с Евгением Сергеевичем, что это ему будет полезно, поскольку в настоящий момент он увлечён написанием пиесы, где один из характеров должен быть непременно доктор, и что знакомство с Евгением Сергеевичем важно ему до чрезвычайности. К сожалению, литератор занемог, но просил заходить к нему запросто в его дом в Аутке. Признаться, я был чрезвычайно возбуждён и обрадован той атмосферой братства, дружественности и альтруизма, витавшей в собрании людей, посвятивших себя медицине, что не обратил внимания на приглашение. Да и впоследствии я не нашёл времени навестить коллегу, о чём постоянно и до сих пор сокрушаюсь.
В какой-то момент Исаак подвёл меня к молодой даме. Я представился. Лиза была очаровательна в лёгком летнем платье, которое облегало её невысокую, изящную, словно выточенную античным мастером, фигуру. Серые глаза её с весёлым и дерзким интересом смотрели на окружающих, а на чуть припухших губах блуждала милая детская улыбка. Не прошло и нескольких минут, как она, взявши меня под руку, повела по кругу залы, мило щебеча о светилах, о космической механике, представляя нас звёздами, вращающимися вокруг центра Галактики. Так мы фланировали добрую половину вечера.
Её мягкое и вместе с тем крепкое касание будто просило о помощи, защите, словно Лиза доверялась мне безгранично и без колебания. В ответ моё сердце билось учащённо и радостно. Потом были наши утренние встречи на вновь возведённом молу где мы с Лизой встречали прибывающие пароходы и парусники. Был в наших свиданиях и нескончаемый променад по Александровской набережной. Я рассказывал Лизе о далёких странах, о путешествиях, о которых мечтал и в которые я непременно отправлюсь. Мы любовались панорамой города, прогуливаясь на вершине Поликуровского холма, а вечерами на просторной террасе гостиницы «Россия» она вновь рассказывала мне о ночном небе, о звёздах, об исследованиях глубин космоса, о своём кузене Аркадии, живущем в Марселе, о том, что он непременно вышлет ей Армиллярную сферу, астролябию и издание астрономических карт.
Однажды мы забрели в Ливадию, горный посёлок недалеко от Ялты. Живописные лужайки разбитого здесь парка украшали скалистые склоны. На его вершине возвышались постройки вновь возведённого летнего дворца Его Императорского Величества. Мы бродили по тенистым, извилистым дорожкам, и Лиза держала меня за руку, отчего голова моя кружилась, а сердце радостно билось. Стоя у белоснежной балюстрады вдвоём, мы восторгались сапфировым цветом моря, криками чаек, долетавших до вершины холма. Мне тогда казалось, что наши души, словно эти чайки, парят где-то там, высоко в небесах.
Мы собрались вернуться, но тут Лиза с детской живостью и озорством стала расспрашивать дежурившего у ворот офицера и буквально замучила того вопросами об архитектуре и назначении тех или иных строений. После мы веселились, вспоминая мученическое лицо молодого военного, который терпеливо объяснял нам, что вот этот флигель предназначен для кухонной части, этот, технический, где стоят специальные машины, – для циркуляции воздуха, а вот здесь – конюшня и конный двор. По дороге назад, в Ялту, Лиза в порыве душевной откровенности рассказала, что была помолвлена с офицером лейб-гвардии, что помолвка расстроилась из-за разногласий о роли женщины в семейной жизни и обществе, что ей двадцать восемь, что все подруги замужем, но она не унывает. И задорно рассмеялась. Очарованный свежестью её молодости, быстрым умом и весёлой открытостью, я совершил непростительную вольность.
Как-то поздним вечером, когда южная ночь накрыла город непроницаемым покрывалом темноты, я сопроводил Лизу до гостиницы «Бристоль», где она проживала. Мы попрощались. Я слегка удержал её руку. В ответ мне почудилось лёгкое, ободряющее пожатие её руки. Мы стояли в двух шагах от парадного, глубокая тень от акации укрывала нас от любопытных взглядов, и я совершенно потерял голову. Я наклонился к ней, и мои губы коснулись её щеки. Однако ж Лиза резко отшатнулась. Потом звучал её голос, удивлённый, возмущённый, успокаивающий, но я был не в силах разобрать смысл произнесённого: я был оглушён, раздавлен, уничтожен. Лишь несколько слов долго звучали в моей голове набатом: «не более, чем добрые отношения», «я не давала повода», «сохраним нашу дружбу».
На следующий день мы не виделись. Я утратил интерес к городу, море казалось мне докучным, жара утомительной, и я просидел весь день под зонтиком на террасе. Состояние моего духа ещё более ухудшилось с приходом портье, который принёс записку. Письмо было от Лизы. Она сообщала, что вынуждена покинуть Ялту. Причину она не указывала. Лишь обращалась ко мне с просьбой. Разумеется, если я по-прежнему ей предан и сохранил дружеское участие в её судьбе. Речь шла о посылке, которая должна прибыть пароходом из Марселя. Посылка от Аркадия, а в ней – долгожданные астрономические приборы и карты звёздного неба. Лиза просила принять её, показав это письмо. Она же сегодня возвращается в город N и просит переслать посылку как можно скорее почтой. Она приписала свой адрес. Я взглянул на дату письма: отправлено вчера. Выходит, Лиза уже в дороге. Портье сообщил, что пароход из Марселя прибудет сегодня к вечеру. План у меня созрел моментально.
Ах, дорогой мой возможный читатель! Кто не терял голову хотя бы раз в жизни? Тем более от чувства к женщине! Когда кажется, что именно от неё, от неё одной зависит счастливое продолжение самой жизни! Строгий и умудрённый опытом читатель скажет, что такая импульсивность присуща влюблённости, а влюблённость, как известно, не есть любовь, что влюблённость проходит, оставляя руины надежд и осколки впустую растраченных движений души. Но пусть! Душа без таких переживаний черствеет и утрачивает способность к нежности, к милосердию и к искренности. Черствеет и, когда наступает время, не способна испытать истинную любовь. Только любовь даёт возможность душе ощутить себя единым целым с другим существом. Впрочем, эти мысли родились много позже описываемых событий. И это будет вполне понятно из моего рассказа.
Так вот, план мой заключался в том, чтобы самому привезти столь желанную для Елизаветы Афанасьевны посылку. Конечно, в этом плане было больше желания вновь увидеть Лизу, чем желания потворствовать её увлечению астрономией. Спустя пять дней поезд, на котором я отправился из Ялты, остановился у платформы уездного города N.
Не буду описывать, как я доставил ящик со штемпелем Marceille – Yalta, как прошла наша встреча с Лизой, как она спустя несколько недель, вновь не попрощавшись, покинула город, отослав мне записку, что ей невыносимо тяжело наблюдать мои страдания, что она не может ответить мне взаимностью, а принудить себя к продолжению отношений не в силах.
Вспоминая наш разрыв, я вновь погружаюсь в уныние, которое не покидало меня в те дни. Совершенно опустошённый, я принял добрый совет Мартына Кузьмича остаться в городе и открыть свою врачебную практику. Этот шаг не доставил мне хлопот, поскольку по обыкновению своему я легко менял места обитания, справедливо полагая, что множество новых впечатлений и новый опыт лишь обогащают разум и душу. Опыт и впечатления на этот раз оказались отнюдь не лучезарными, но пусть! Тем более было приятно осознавать, что тем самым помогаю прекрасному человеку и коллеге.
Доктор Томилин, нередко в ущерб работе с пациентами, много сил отдавал бумажной склоке с фабрикантом Трапезниковым. Помочь ему в борьбе с богатеем значило проявить гражданскую солидарность. Как поведал Мартын Кузьмич, фабрикант бездумно и в угоду своим экспериментам губил протекавшую по окраине городка речку Туманку. На мой вопрос, есть ли что-то особое в том, что делается на фабрике, что приносит такой ущерб природе, Томилин сообщил о построенной уже с полгода экспериментальной линии по извлечению меди и золота из горной руды. Я запротестовал, достоверно зная, что руду обрабатывают там же, где её роют, то есть на горных приисках, а у нас тут степь на сотни вёрст. Оказалось, что Трапезников как бы тайно свозит сюда с рудников бесполезную колчеданную породу и пускает её в обработку. Томилин не знает в точности, как это делается, но знает, что руду обрабатывают по малоизученному способу Макартура – Фореста.
Опасаясь за здоровье рабочих и горожан, он обратился в губернскую врачебную комиссию с просьбой изучить этот способ на предмет его безопасности, и для сего, считал он, необходимо привлечь внимание властей. В доказательство опасности таких работ Томилин пригласил меня для совместного осмотра двух фабричных рабочих с признаками непонятного воспаления дыхательных путей. По его убеждению, причиной было вредное вещество, с которым им приходилось работать. Один из фабричных не мог ходить и жаловался на мучительные боли в тазу. После осмотра пациентов я согласился с коллегой, что воспаление носит признаки токсического отравления. Кроме того, я предположил, что боль и невозможность ходить говорят о разрушении сустава, и пусть это не покажется уважаемому Мартыну Кузьмичу нелогичным, причиной тому мог быть метастаз опухоли. Мы согласились, что обоих пациентов стоит направить в губернскую больницу, к доктору Гейнцу – специалисту по лёгочным заболеваниям.

