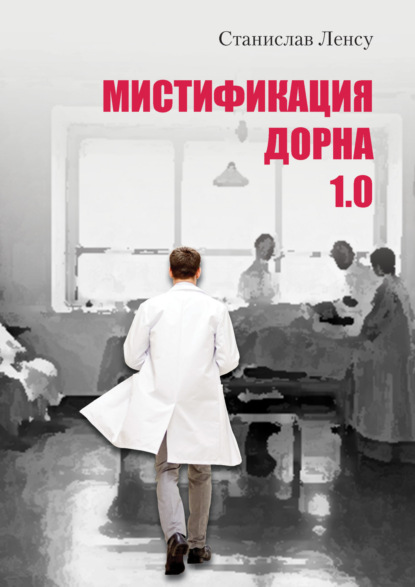
Полная версия:
Мистификация Дорна. Книга 1
Он снова моргнул и продолжил;
– Японцы говорят, что жизнь – это дорога. Дорога, которая петляет и вдруг выводит тебя на развилку. Не задумываясь повернуть налево или направо, ты идёшь дальше, упустив, что у тебя есть выбор. Тебя ведёт рок, фатум, судьба! Вот вы, Евгений Сергеевич, сейчас на развилке, а я – фатум, делаю одолжение, позволяя вам выбирать: свернуть влево или вправо.
Сумрак скрадывал черты его лица, но требовательный и торжествующий взор блестел и впивался в меня, требуя ответа. Нет ничего более странного, чем смотреть в чёрный зрачок револьверного дула. Видеть тусклый блеск металла, мысленно видеть, как под сверлом мастера стальная заготовка превращается в ствол; как для смертоносного вращения пули седой оружейник неторопливо вытачивает спираль нарезок на внутренней зеркальной поверхности; как ладно подогнанные его натруженной рукой казённая часть, ствол и деревянная тёплая рукоять мгновенно складываются в то, что сейчас смотрит мне прямо в лицо; видеть и отказываться верить, что смерть придёт через мгновенье, придёт со вспышкой пламени и запахом порохового дыма.
– Послушайте, Томский, – начал я медленно, стараясь скрыть волнение, – я непременно назову карту. Только ваше логическое построение насчёт фатума и… прочее, – я сглотнул, – уязвимо.
Ворот сорочки давил мне горло и я, не торопясь, ослабил галстук.
– Можно ли вас понять, что я не волен пойти третьей дорогой? Моя свобода лишь в выборе одной из предрешённых судьбой?
– Верно! – воскликнул Томский, окончательно войдя в роль фатума.
– Значит ли это, что у меня нет шансов обмануть судьбу?
– Никаких! – радостно поддержал он меня и почти приставил дуло к моему лбу.
– Что ж, я назову карту, – пауза повисла меж нами, и, казалось, сумрак в комнате уплотнился от тишины.
– …Но вы, Томский, не обманете свою, – я снова сглотнул пересохшим горлом, – судьбу. Карты уже сданы! Туз лёг налево, а дама – направо. Вы не вольны предложить свой вариант. И коли вам суждено сорвать банк, вы его получите и без моей карты. Если ваш удел прозябать в этом флигеле, то назови или не назови я вам карту, ничего не измениться! Разве что смените этот дом на богадельню.
В этот момент чей-то силуэт заслонил убогий свет ночного неба, словно кто-то снова заглядывал в окно. Мы, не сговариваясь, отступили вглубь комнаты.
Мелькнув на мгновение, тень исчезла. Бледный свет вновь залил комнату, очернив тени и размыв наши лица. Томский коротко взглянул на меня, словно проверял, не померещилось ли ему. Потом спрятал револьвер и опустил глаза. Ссутулившись, он быстро вышел из комнаты. Я повалился на кровать в изнеможении и не раздеваясь. Кажется, я знал третью карту.
* * *Мне пригрезилось, что я лишь на мгновение сомкнул глаза, и сразу же раздался стук в дверь:
– Батюшка, милостивый государь, пора уж, поспешайте! – раздался голос полового.
Я вскочил. Комната была погружена в ночной сумрак. Взглянув в подслеповатое зеркало у кровати, я заметил, что на мне сюртук и галстук, повязанный вокруг высокого воротника белой сорочки. Меня словно осенило: всего несколько часов назад я покинул бал в доме купца Игнатова! И вот я, среди ночи, нахожусь в сельской глуши со странными и чужими мне людьми. Придя от этой мысли в замешательство, я отстранился от зеркала и повернулся к окну. Каково было мое удивление, когда я увидел, что окна господского дома горят, за ними какое-то движение, и коляски одна за другой подкатывают к шумному крыльцу.
За дверью меня ждала прислуга со свечой в руке. Скорым шагом мы направились по тёмным коридорам: женщина – впереди, освещая дорогу, я – следом, не понимая, что происходит, но готовый принять невероятность происходящего. Миновали одну комнату, другую. Спустя несколько поворотов вышли к переходу между флигелем и домом и, наконец, очутились в широкой зале, где над головой тяжело нависал балкон второго этажа, а пары невысоких колонн справа и слева открывали лестницы, ведущие наверх. Прямо передо мной начинались ступени вниз, в сгустившейся темноте за ними угадывались высокие окна. Оглянувшись, я обнаружил, что моя провожатая покинула меня – красноватое пятно вдали коридора мелькнуло и исчезло.
В тот же момент я услышал музыку. Где-то близко, но приглушённо, еле слышно, едва угадываемо, звучала музыка. Скрипки? Скрипки… И даже очень мило и, я бы сказал, легкомысленно. Звуки стали отчётливей, они прорывались кусками, и вот уже они складываются в мелодию, и вот уже откликаются во мне улыбкой, и наполняют меня радостным ожиданием невероятного: встречи, быть может, или чувства?
«…Одной любви музыка уступает…» – нежданно мелькнуло в моей голове.
Я шагнул к дверям – как я не видел их раньше? Решительно потянул обе створки, и яркий свет обрушился на меня из огромной, наполненной людьми и музыкой, залы.
* * *Я шёл не спеша мимо статских и военных, мимо разряженных дам и девиц, сдержанно кланялся и улыбался в ответ на доброжелательные поклоны незнакомых мне людей, растерянно оборачивался вослед незнакомке, скользнувшей по мне заинтересованным взглядом. Я шёл, и ожидание поразительного не покидало меня.
В центре зала танцевали нескончаемый вальс. Шелестел шёлк, мелькали руки, проносились пары, блестели разгорячённые взоры, и улыбки недосказанной откровенности озаряли лица. На небольшом возвышении, на противоположном конце зала, в окружении девиц сидела разряженная и нарумяненная старая графиня ***. Приглашённые гости подходили к ней в поклонах, роняли две-три фразы и удалялись. Старуха сидела, как изваяние, не видя и, казалось, не слыша никого.
Меня окликнули. Подошёл Томский и увёл меня под руку в боковую комнату, где за несколькими столами шла игра. Мы приблизились к группе молодых людей. Томский меня представил.
– Дорн? – спросил меня один из них, пехотный офицер с приятным и открытым лицом. – Вы – немец? Уж не из обрусевших ли вы немцев?
– Именно так, – решил подыграть ему я, – имея мало истинной веры, имел он множество предрассудков.
– Вот как! – воскликнул другой, отрекомендовавшийся Суриным. – В душе вы игрок, но отроду не брали карты в руки?
Все дружно засмеялись, принимая этим меня в свой круг, и лишь Томский нахмурился: прикусив губу, он поглядел на меня долгим и недобрым взглядом. Когда дружная компания придвинулась к одному из столов, где пошла игра по-крупному, Томский отвёл меня в сторону.
– Дорн, – обратился он ко мне, глаза его блуждали и блестели нездоровьем, – при мне сорок семь тысяч. Это всё, что у меня есть!
Он замялся, отводя взгляд. И снова продолжил:
– Дорн, послушайте… Евгений Сергеевич, только вы можете спасти меня, моё имя и… – он взглянул на меня, – саму жизнь! Так сложилось… Да! Именно сложилось, что я похитил на службе триста тысяч. Мерзко, гадко! Я знаю, знаю! Не нужно так глядеть на меня! – прошипел он злобно и коротко оглянулся на играющих.
– Дорн, – заговорил он лихорадочно, – возьмите эти деньги и сыграйте две карты! Только две! Все сходится, вы полунемец, не играете, но, верно, игрок! Вы лишены сердечных привязанностей, вы одиноки – тем слаще играть с судьбой! Вы холодны и расчётливы, вы видите мир сквозь призму случая, верите, что путь ваш предначертан, одним словом – игрок! Сыграйте лишь две карты и верните мне триста тысяч, верните имя, честь и жизнь! Утройте, усемерите мою судьбу!
Я слушал, пытаясь понять, насколько опасно помешательство несчастного Paul. Тот схватил меня за руку и тихо, на этот раз удивительно спокойно, произнёс:
– Дорн, если вы не согласитесь, я застрелю вас. Всё одно – каторга!
Мы подошли к столу как раз на перемену игры.
– Позвольте поставить карту, – обратился я к банкомёту. Недавние мои знакомцы заулыбались и зашумели, поздравляя меня с удачным началом мистификации. В это время Томский быстро надписал мелом куш над моей картой.
– Сколько-с? – прищурившись, уточнил банкомёт. – Сорок семь тысяч?
При этих словах любопытствующие быстро перешли от соседних столов к нам.
– Что, бьёте вы эту карту? – не сдержавшись, почти выкрикнул Томский.
– Смею вам заметить, – последовало спокойное продолжение, – что карта ваша сильна, но я не могу метать иначе, как только на чистые деньги. С моей стороны, довольно вашего слова, но порядок игры…
Томский, не дослушав, бросил на стол несколько банковских билетов.
Банкомёт молча поклонился и стал кидать карты на стол: одну – направо, другую – налево.
– Выиграла! – воскликнул я, немало подивившись совпадению выигравшей карты и той, что легла налево.
– Извольте получить? – спросил банкомёт.
– Нет, играю снова! – я заменил карту и уже сам мелом надписал новые цифры.
Метающий побледнел и вытер испарину со лба. Ему тут же принесли сельтерской.
Он стасовал карты и вновь стал отбрасывать: одну – налево, другую – направо.
Карты равномерно ложились то на одну сторону стола, то на другую: налево легла девятка, направо – шестёрка, налево – король, направо – десятка, налево…
– Есть! – воскликнул я, заражаясь странным неспокойствием души, приводящим к ознобу и сухости во рту. Все в величайшем волнении смотрели, как я медленно открываю свою карту. Наконец, она открылась. Повисло молчание. Даже музыка из соседнего зала, казалось, стихла.
– Изволите получить, – банкомёт прервал молчание и выложил на стол несколько ассигнаций по сотне тысяч.
– Благодарю вас, – я слегка поклонился и развернулся, чтобы уйти.
В это время рука Томского вцепилась мне в локоть.
– Вы безумец, если уйдёте сейчас! – прошипел он. – Я доверился вам единственно, чтобы удостовериться, что графиня открыла вам тайну! Она открыла вам тайну! И сейчас вы хотите уйти? Уйти, зная третью карту? Безумец! Играйте! Это, возможно, единственный шанс, который даёт вам судьба. Играйте! Отдайте мне половину, остальное – ваше!
Осторожно, но решительно я высвободил локоть и двинулся от стола, оставив его с выигрышем. Провожаемый восхищёнными и завистливыми взглядами, я шёл напрямую через зал к графине ***.
– Не откажите танцевать со мной, Ваша Светлость, – остановившись перед ней, я склонил голову.
Девицы и приживалки, стоящие вокруг своей барыни, зашушукали, перемигиваясь и пряча улыбки и мелкие смешки в кулачки своих полных розовых рук. Графиня смотрела сквозь меня, и, казалось, перед её выцветшими глазами проплывали видения прошлого, где танцующие пары кружились, кружились, а она лишь смотрела на них со стороны, не вставая с кресла. Внезапно что-то дрогнуло в её лице: она нахмурилась, губы плотно сжались, а взгляд стал осмысленным.
– Ты, что же, шутки вздумал шутить? – спросила она тихо. – Надсмеяться хочешь?! Дурой выставить?!
Я протянул руку, предлагая ей подняться. Она в недоумении склонила голову и посмотрела на мою ладонь. Потом медленно высвободила из-под кружев руку и доверчиво положила свою сухонькую ладошку.
Первый шаг был короток. Оркестр сделал паузу. Графиня перевела дыхание и сделала второй. Музыка отозвалась коротким всхлипом духовых и смолкла. Не дожидаясь следующего шага, она зазвучала вновь, набирая мощь и толкая нас вперёд. Каждый следующий шаг давался всё легче, всё быстрей и быстрей, и вот наша нелепая пара описала круг по зале среди застывшей и с удивлением следящей за нами публики.
– Вы сумасброд! – проговорила графиня, едва справляясь с дыханием и блестя повеселевшими глазами. Мы остановились аккурат возле её кресла. К нам подбежали дамы и девицы, раздались аплодисменты. Барышни наперебой прикладывались к щеке графини своими невесомыми поцелуями; кавалеры слетались со всех сторон бала, припадали на одно колено перед ней, говорили какой-то вздор и милые нелепости; офицеры гремели сапогами, улыбались и крутили ус, громко кашляли от нерешительности и щурили свои геройские карие глаза.
А музыка не смолкала! Она кружила над головами, вихрилась позёмкой по полу, заплетая лёгкие ноги прелестниц и лакированные штиблеты франтов, раздувала румянец девочек, приехавших на первый свой бал, и рождала детские надежды в сердцах вдовцов. Она носилась среди люстр, дробя огни на множество сверкающих кристаллов, металась среди колонн, топтавших «слоновьими ногами» блистающий паркет, и тихо звенела стылым стеклом в окне верхнего пустого этажа. Радость, радость освобождения наполняла сердце!
– Кавалер, Ваша Светлость! – прокричал я графине, силясь перекрыть музыку. – То был кавалер, валет! Третья карта – это валет! Верно?
Я увидел, как медленно и странно поворачивала ко мне свою голову старуха, как ехидно сощурился её левый глаз, как проступили румяна на её щеках. Громко, так что враз всё примолкло, грянул выстрел. В наступившей тишине кто-то крикнул:
– Врача!
Я пошёл не спеша туда, где плеснула паникой и затихла толпа играющих, а застывшие фигуры у карточного стола вздыбились плечами и колючими спинами. Я пересекал залу, и люди отступали, пропуская меня вперёд, – я шёл словно по коридору. В конце этого пути лежал Томский. Тёмное пятно крови липкой кляксой расплывалось на его груди. Я склонился над несчастным. Тело под окровавленной сорочкой уже остывало. Смерть наступила мгновенно. Здесь же лежал револьвер. Я распрямил пальцы убитого – зажатая карта выпала мне в руку. То был валет. Бубновый валет.
* * *Я выпрямился и, не оглядываясь, вышел вон из залы. Миновав быстрым шагом пустой коридор, я толкнул дверь в самом его конце и очутился, судя по обилию стеллажей с книгами, в библиотеке.
– Браво! – раздалось при моём появлении, и сначала один хлопок, потом другой, а следом уже аплодисменты заплескались меж шкафов и множества полок с книгами.
Прямо передо мной в кругу света стоял Кирилла Иванович и раскланивался. Среди восторгающихся я узнал Горемыкина, потом увидел Анну Леопольдовну, рядом Лизоньку, да вот и Куртуазов стоит рядом.
– Браво! – крикнула Анна Леопольдовна.
– Восхитительно! – вторил ей Горемыкин.
– Ах, как тонко вы ввернули бубнового валета! Мошенник, истинное слово, мошенник этот Paul! – завистливо восхитился Куртуазов.
– А доктор как похож! – взвизгнула остроносенькая Лизонька и захлопала в ладоши.
– А вот и наш доктор! – вскинул руку Кирилла Иванович. И вся толпа радостно бросилась ко мне.
* * *Заканчивалась странная ночь. Мы с Кириллом Ивановичем одни задержались в трактире. Разъехались по своим домам и давно спали любители словесности, не томясь фантазиями и бессонницей. Заснул и литератор, уронив голову на стол и обхватив себя по-сиротски руками. Я глядел на копну его волос, с проволокой седины, и на душе было пусто и досадно.
г. Санкт-Петербург, зима 1833 – осень 1854Комментарии Издателя«…анекдот» – в XIX веке слово «анекдот» имело следующее значение: занимательная история о каком-нибудь известном человеке, необязательно с задачей его высмеять. Под «известным человеком» автор, вероятно, подразумевает себя.
«…Клара Гасуль» – испанская актриса. В 1825 году был напечатан и благосклонно встречен публикой сборник её пьес «Театр Клары Гасуль». Позже выяснилось, что это была литературная мистификация французского писателя Проспера Мериме.
«…акмеисты» – (от греческого «расцвет…») модернистская поэтическая школа, возникшая в России около 1911 или 1912 года под руководством Н. С. Гумилёва и С. М. Городецкого. Идеалами акмеистов были компактность формы и ясность выражения. К акмеистами себя относили также О. Мандельштам, А. Ахматова, Г. Иванов.
«…была поклонницей поэта Надсона» – Семён Яковлевич Надсон, русский поэт и эссеист второй половины XIX века. Был популярен среди антимонархически настроенной молодёжи.
«…рукой Сервантеса» – Мигель Сервантес – автор «Дон Кихота», в 1571 году, находясь на службе в испанском флоте, во время битвы при Лепанто потерял кисть левой руки. Много позже, уже вернувшись в Испанию, оказался в тюрьме, где и начал литературную деятельность.
«…пытал счастье вместе с рыжим инженером, сражался и погибал в отрядах этеристов!» – отсылка к произведениям А. С. Пушкина «Пиковая дама» и «Выстрел», точнее к их героям: военному инженеру Германну и отставному военному, добровольцем воевавшему против турок на стороне греков-этеристов, Сильвио.
«Томский, местный помещик…» – Томский, Графиня ***, Сурин – персонажи повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Редакция вынуждена предупредить читателя, что автор никак не мог встречаться ни с Томским, ни с Графиней *** по той простой причине, что персонажи эти вымышленные. Более того, с автором они никак не могли встретиться в конце XIX века в глухомани Самарской губернии, так как были придуманы и созданы в Болдино Нижегородской губернии в 1833 году. Продолжая знакомство с «творениями» Е. С. Дорна, читатель берёт на себя всю полноту ответственности за последствия.
«…если б он не обдёрнулся на третьей карте» – «обдёрнуться» при игре в карты означает ошибиться, вытащив не ту карту.
«…одной любви музыка уступает…» – цитата из пьесы А. С. Пушкина «Каменный гость» из цикла «Маленькие трагедии».
«…зажатая карта выпала мне в руку. То был валет. Бубновый валет» – на языке французского разговорного обихода, начиная с XVII столетия, «бубновый валет» (valet de carreau) – мошенник, плут, человек, не заслуживающий уважения.
Дар украденный
Я тронул извозчика за плечо, останавливая его на знакомом мне адресе. Здесь начались события, которые сделали меня подозреваемым в убийстве. Правда, сначала я заделался солдатом трагической для всей России войны, потом судьбе было угодно вернуть меня в этот город и стать подозреваемым в убийстве боевого товарища.
Дом и сад за невысоким забором нисколько не изменились. Помнится, у левого угла здания рос куст сирени. Сухие ветви глухо стучали на стылом ветру, а коричневая, словно из обёрточной бумаги, листва никак не хотела облетать. При каждом взмахе метели чёрные тени от куста раскачивались на стене в детской.
В прихожей, всегда тёплой от топившейся беспрестанно в ту зиму печи, висели два зеркала: одно напротив другого. Встав между ними, я мог видеть множащееся бесчисленное количество раз своё отражение. Украдкой, чтобы не заметила прислуга, в каждое посещение я искал глазами самое последнее из них. Они дробились, уменьшались и отдалялись, терялись, и мне порой казалось, что там в глубине уже не я, а кто-то другой смотрит из глубины амальгамы. Смотрит на меня и не узнаёт.
С той поры я ни разу здесь не был. Дом, его обитатели жили своей жизнью, а я – своей. Сколько таких домов на пути врача? Для меня минувшие годы были полны потрясениями, потерями и недолгими радостями. Столько событий! И вот я снова у этой парадной. Вероятно, до сего дня у его хозяина не возникала надобность в помощи доктора. И слава Богу! Что касается до меня, то по некоторым причинам и я не стремился к посещению уважаемого Павла Андреевича Трефилова, присяжного поверенного при окружном суде, надворного советника и вдовца.
Одно время я часто бывал в их доме по врачебным делам. Той зимой было много случаев пневмонии. Многие мои коллеги в этой связи опасались вспышки туберкулёза, но, как оказалось, их опасения были чрезмерны. Так случилось, что Павел Андреевич обратился именно ко мне, поскольку домашний доктор Илья Федорович Анисимов сам слёг в постель и рекомендовал меня в качестве достойной замены. Чему я был несказанно рад и глубоко благодарен пожилому своему коллеге. В те дни я покинул службу земского врача и, оставшись в городе, крайне нуждался в практике.
Дочь Павла Андреевича, Лидочка, ученица седьмого класса женской гимназии, захворала, к несчастью, двухсторонней пневмонией. Я нашёл её в критическом состоянии. Бедная девочка дышала часто и поверхностно. Временами она заходилась от сухого кашля так, что голова её со спутанными русыми волосами отрывалась от подушки, тело сгибалось, а сама она едва не доводила себя до рвоты. Приступ кашля заканчивался тем, что несчастное дитя обессиленно валилось в жаркую свою постель. Безучастное, бледное лицо её едва выделялось на фоне белоснежного белья. Носогубные складки уже приобрели синюшный оттенок, а лоб был покрыт липким, не высыхающим потом. Пульс едва прощупывался, был нитевидным и частым.
Павел Андреевич с трясущимися губами, не сдержав рыдания, вышел из комнаты. Аускультация и перкуссия по методу Шкоды утвердили меня в первом подозрении о наличии пневмонии. Не мешкая, я набрал в шприц камфоры и ввёл маслянистую жидкость под кожу на плече девочки. Когда дыхание её стало более размеренным и глубоким, я велел укрыть больную шубами и раскупорить утеплённые на зиму окна.
Застоявшийся, затхлый воздух сменился морозным, живительным. После проветривания внесли раскалённые камни в железном ящике, укрытом влажной простыней. Комната быстро наполнилась теплом, а воздух приобрёл необходимую влажность. Но девочке не становилось лучше. Её худенькое тельце источало жар. Ни натирание водкой, ни влажные компрессы не давали нужного эффекта. Лидочка умирала.
Сестра Павла Андреевича, старушка во всём чёрном, уже несколько раз подходила ко мне, спрашивая, не послать ли за батюшкой, не пора ли соборовать Лидочку. Я упорно отмалчивался. В эти мгновения, когда черты лица больной стали заостряться, холодное, тёмное сомнение, скрывавшееся до поры до времени в отдалении, вдруг проявилось и начало разрушать мою решимость.
Стряхнув с себя оцепенение, я раскрыл свою сумку и достал пакетик с байеровским порошком. Я знал, что рискую. Знал, что лекарство имеет как целительные, так и пагубные свойства для организма. Ещё Парацельс заметил, что яд может быть лекарством, а лекарство – ядом: все определяет доза вещества. В ту минуту, стоя перед постелью умирающей, я гнал от себя мысль о возможных осложнениях. Ожидаемый мною эффект должен был переломить ход болезни.
Бывают моменты, когда от сострадания врач впадает в отчаяние и в этом ослеплении не совершает тот единственный, за гранью обыденного, шаг, ведущий к спасению. Или к гибели. Шаг дерзновенный, навстречу провидению, оставляющий тебя один на один с Богом. Это и есть шаг за пределы познанного, за грань рационального, за грань самосохранения.
Я высыпал половину пакетика в стакан с тёплой водой и почти силой влил жидкость в рот находящейся в беспамятстве девочки. Когда сумерки затопили комнату, наступил кризис. Лидочка, утонувшая в «сугробах» постели, шевельнулась, вспугнув затаившиеся по углам тени. Открыла глаза, просветлевшие после отхлынувшей мути лихорадки, и попросила пить. В последовавшие две недели она медленно, но упорно выздоравливала. Молодость, питание с козьим молоком, доброе и сочувственное отношение Павла Андреевича брали верх над болезнью, не давая ей расправить свои чёрные крылья и отодвигая тень туберкулёзной инфекции. Как вы могли заметить, радость от одержанной победы подвигла меня на некоторые высокопарные метафоры. Оправданием тому может служить лишь возвышенное состояние моей души, порыв которой на короткий миг слился с предначертанным и вызволил бедное дитя из беды. Да и меня наградил счастьем. Как оказалось, ненадолго.
На Сретенье Павел Андреевич пригласил меня в кабинет, усадил в глубокое кожаное кресло и стал молча прохаживаться за моей спиной. Наконец он сел за письменный стол и тяжело взглянул из-под густых бровей.
– Евгений Сергеевич, – прервал он тягостное молчание, – Лидочка, благодарение Богу, поправляется…
Он снова замялся, отвернувшись в сторону, словно ему невыносимо тяжко было смотреть на меня.
– Милостивый государь, не сочтите за неблагодарность… – голос его звучал непривычно, словно каждое слово вызывало в нём муку, – одним словом, Евгений Сергеевич, дорогой мой, не бывайте у нас!
Он вскочил из-за стола и стал энергично расхаживать на этот раз перед самым моим лицом.
– Не знаю, как вам объяснить! Поймите отца, дорогой доктор! Лидочка – единственное, что держит меня в этой жизни. Софья Никитична, её мать… упокой, Господи, душу её с миром… была моим счастьем и опорой! Господь призвал её к себе. Знаете, Евгений Сергеевич, я было запил, страшно запил! Но Лидочка спасла меня! Дитя неразумное, душенька Лидусик, заново открыла для меня радости жизни. Дорогой мой доктор! Дорогой Евгений Сергеевич, она ведь ещё совсем ребёнок, она дитя бесхитростное и восприимчива к счастью и к несчастию в равной мере! Ваши визиты к ней, ваше участие и слова, обращённые к ней, возбудили в ней нелепую фантазию, романтические чувства! Лидочка влюблена в вас!
Произнеся, наконец, эти тяжкие для него слова, Павел Андреевич замолчал и обессиленно повалился в своё кресло. Для меня его сообщение прозвучало, как гром среди ясного неба. Я и в мыслях не мог представить такого поворота событий. Однако память мне услужливо стала предлагать картинки воспоминаний. Теперь в свете сказанного я увидел их иначе.
Через несколько дней после кризиса, когда к больной вернулись силы, я настоял, чтобы она села в постели и начала делать дыхательную гимнастику. Чтобы преодолеть её апатию, характерную для этого периода выздоровления, я принялся изображать ветер, который гонит по волнам парусник. Надувал щёки и дул на маленький кораблик в тазу с водой, который велел поставить рядом с постелью. Кораблик я смастерил накануне ночью, и он легко, подчиняясь напору выдуваемого мной воздуха, скользил по глади «океана». Лидочка несколько секунд в недоумении смотрела на моё чудачество, потом тихо рассмеялась и присоединилась ко мне, надувая щёки и силясь изменить движение парусника. С тех пор каждую нашу встречу мы начинали с этого упражнения, смеясь и радуясь быстрому скольжению игрушечного судёнышка.

