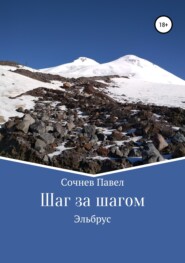 Полная версия
Полная версияШаг за шагом
Через какое – то время отошёл. Дрожь прошла совсем. Пришло осознание о случившемся. На одну мечту стало меньше. Дальше в этом направлении придумывать развитие не стал. Хотя было очень заманчиво из-за своеобразной доступности.
Перед прыжком я, в ожидании погоды, нервно курил в курилке. Подошёл спортсмен и попросил закурить. Я удивился тому что спортсмен курит. Ну немного необычно для меня, о чём я тут же оповестил, протягивая сигарету и зажигалку. И тут же был информирован, что парашютный спорт один из очень немногих, а может быть совсем единственный вид спорта которым можно заниматься даже с прокуренными лёгкими и больной печенью. Несмотря на курение, прокуренными лёгкие не считал и не считаю, печень тоже ведёт себя спокойно – не беспокоит. Но вот этот блеск в глазах парашютистов, их желание прыгать, прыгать и прыгать подвигло меня на поиск дополнительной информации.
Нашёл/выяснил – это занятие более пагубное чем алкоголизм. Почти как наркотики. Тот, кто втянулся в прыжки, добровольно выходит редко. Сами же занятия характеризуются как «деньги в трубу». Причём они (занятия) забирают и деньги, и время, и на иные увлечения может не хватить или времени, или денег, или того и другого. А поувлекаться другим хотелось, например – яхтингом.
Поэтому далее – часть вторая про яхтинг.
Шкиперская практика
Как уже написал выше, кроме долго дожидающейся, но всё же дождавшейся своей реализации мечты о прыжке с парашютом, хотелось, даже мечталось походить под парусом. Тоже никогда не хотел, тихо/мирно любил себе «море с берега», пока случайно не попалась короткая статья в случайно открытом журнале. Прочитал и захотел. Захотел когда-то.
Желание тихо мирно лежало себе, никого не беспокоя. После прыжка вспомнил, что оно есть. Вероятно, удар о землю был всё-таки сильным. Что-то в голове стряслось или подвинулось. Начал собирать информацию, чтобы уточнить чего же я хочу, сколько это может стоить и какова продолжительность (в часах, днях, месяцах… Про годы почему-то не думал. Не думаю и сейчас). Выяснил – задумался.
Просто так, решить, купить яхту и уйти можно, только шансов вернуться будет очень немного. Почти совсем не будет. Нужно знать теорию и научиться практически управлять яхтой. Даже если научишься всему и наберёшься опыта, шансов вернуться будет больше, но шансы не вернуться, всё равно останутся. Задача усложнялась. Когда прошёл первый шок, а мечта осталась, выяснил стоимость теории и расписание курсов. Стоимость яхт не узнавал. Немного побаивался, что, если узнаю сколько стоит яхта, и это будет очень дорого, желание заниматься яхтингом пропадёт.
Подкопил денег. Почему пришлось подкопить? Потому что обычные расходы аккуратно поглощали всю зарплату. Пришлось часть, расходов перевести в разряд нерегулярных и немного ограничить себя в использовании общественного транспорта. Совсем не получилось, ограничился тем, что дистанции до двух километров стал преодолевать пешком. Курить не бросил, но стал курить меньше и стал вести учёт расходов. Оказывается, если вести учёт, то можно меньше тратить. Прошёл обучение. Выяснил, что до обучения я не знал о яхтинге не многого, а вообще не знал ничего. И во время обучения узнал не всё, а совсем чуть-чуть, но этого чуть-чуть должно было хватить на только дневное, недалеко от берега и только в хорошую погоду самостоятельное плавание. Но не сразу, а после практического обучения.
Стоимость практического обучения для меня в то время была сопоставима со стоимостью полёта в космос. Вот так вот бывает иногда в жизни – какие-то суммы воспринимаются как нормальные, какие-то большими, но достижимыми, чуть больше – труднодостижимыми, а потом количество знаков достигает психологического горизонта. Вот с этого горизонта и далее – просто недостижимые, нереальные. Настолько недостижимые, что даже нет зависти к тем, у кого это есть. Просто другой мир.
Мечта не исчезла, она стала терпеливо дожидаться своего часа. Пока мечта ждала, я сделал два робких шага по направлению к ней. На несколько часов арендовал яхту со шкипером и походил с семьёй и друзьями по Пироговскому водохранилищу. Шкипер допустил меня к штурвалу и позволил поработать с левым стаксель шкотом. Это я сейчас знаю, как эта верёвка называется, а тогда романтикой веяло и от названия, и от упругого сопротивления стакселя.

Пару часов походил с женой на моторной лодке в Греции. Сам рулил, совсем сам. Дважды получил высокую оценку своих действий. Первый раз, когда быстро и очень виртуозно вышел из пещеры, в которую пытался залезть прогулочный корабль. Развернулся задом и на среднем ходу прошёл между скалой и бортом этого самого корабля. Получил «лайк» от капитана. И второй раз, когда очень мягко пришвартовался. О том, что пока бороздил прозрачное море, чуть было не налетел на скалы знает только жена. Она же меня и уберегла от этого – заметила под водой скалу.

Кому-то это может показаться пустяшным делом, но для меня это было небольшое приключение. Чем тоньше чувствуешь мир, тем больше собираешь впечатлений. Можно, правда, нарваться на такие впечатления, что и слоновья шкура не выдержит. Но это когда нарвёшься. А если постоянно ходить в «броне» в вечном ожидании нападения, то многие прелести и прекрасности жизни или вообще все, пропустишь/не почувствуешь. И зачем тогда жить?
Однажды сформулировал что есть «жизнь» – всё оказалось (как мне показалось) чрезвычайно просто. Жизнь есть процесс удовлетворения потребностей. Всё. Если есть потребность в чём-либо – значит жив. Если нет потребностей – мёртвый или неживой. Если потребности есть, но их не удовлетворять – умрёшь. У меня есть потребность во впечатлениях и пока у меня хватает ресурсов эти потребности удовлетворять. Согласен и даже не буду спорить, что эта потребность абсолютно не практичная – расходов много и часто, доходов – никаких. Но мне это нравится. Опять отвлёкся. Извините, возвращаюсь к яхтингу.
В общем хотелось пройти практическое обучение, но не очень, потому как стоимость продолжала оставаться на уровне горизонта. Но однажды вдруг организовались курсы не в «забугорье», а в Калининграде. Всё так же как обычно, но без тёплого моря, дорогого перелёта, в два раза дешевле и с нежаркой погодой.
Мечта приблизилась. При нормальных условиях она для меня оставалась бы недосягаемой, но ближе и я, в очередной раз, поступил ненормально – взял кредит. «Потом» меня не устраивало по той причине, что после определённого возраста «потом» может не случиться. Может случиться совсем другое, после которого никаких потом уже не будет.
Оно, это другое, судя по некрологам, траурным речам, статьям и эпитафиям всегда случается неожиданно. По крайней мере я очень редко слышу и читаю про то, что ждали, ждали и вот, наконец свершилось. Даже если втайне ждут, всё равно говорят и пишут о скоропостижности, внезапности и, очень расплывчато, про то как много он (она) ещё бы, если бы не…
В общем, подкопить не удалось, пришлось взять кредит. Оплатил практику, купил целый гардероб соответствующей одежды плюс рюкзак. Готов! А самостоятельная практическая попытка управления косым парусом у меня уже тоже была.
В далёком, детстве я пытался сымитировать подобие паруса. Посёлок Ильинский стоял на берегу Татарского залива. Вероятно, это самое ветреное место на Сахалине. Ведь не просто так японцы, когда часть Сахалина принадлежала Японии, назвали этот посёлок Кюсюнай – Семь ветров. Почему стоял в прошедшем времени? Потому что это сейчас не посёлок, а село. Он немного изменился со времён моего детства. Травы на полянах стало больше, поляны шире, а жителей и домов – меньше.
А ещё русские первопроходцы именно у этого посёлка впервые ступили на землю острова. Они не только впервые ступили, но и сделали маленькое, но очень важное открытие – Сахалин – это остров, а не полуостров, как считалось ранее.
Капитан Делангль, который был в составе экспедиции Беринга, по его приказу должен был изучить сахалинское побережье. Изучил. Зашёл в залив. Назвал залив своим именем (так до сих пор и осталось). Подошёл к берегу. Высадился. Встретился с местными аборигенами – айнами или нивхами. Удивился тому, что айны и нивхи совсем не монголоидной расы. Светлокожие, с европеоидным разрезом серых глаз, с обильной растительностью на лице. В общем какие-то очень выделяющиеся среди полностью их окружающих на других островах, полуостровах и материках народов.
Аборигенов это нисколько не беспокоило. Они утверждали, что они местные и коренные. Эта загадка так и остаётся нераскрытой до сих пор. Кто они, откуда и как давно. Да, наверное, уже и не раскроют. Мало их осталось или совсем уже нет.
А Делангль, следуя указанию Беринга, оставил на месте высадки лейтенанта Ильина и трёх матросов, которые основали здесь форт Ильинский. Сейчас место форта уже покрыто морем. А мой старший брат, лет за десять до моего появления ещё видел остатки форта и на берегу иногда находили монеты и другие артефакты тех времён. А потом в заливе стали добывать (черпать) песок и форт ушёл в море. А недавно, песок стали добывать с другой стороны посёлка. Там когда-то (в моём детстве) был хороший песчаный пляж, сейчас пляжа нет, одни камни. Но это было лирическое отступление. Снова возвращаюсь к яхтингу.
До самостоятельной парусной практики я додумался сам. Взял старую клеенку, которой когда-то покрывали стол. В советские времена многие покрывали кухонные столы такими клеёнками. Эта уже была сильно потёртой и ей на смену была куплена новая. О планах родителей на дальнейшее использование клеёнки в хозяйстве я не поинтересовался. Поэтому приколотив к одной из сторон рейку, вынес её и приколотил вторую, прилегающую сторону, к деревянному электрическому столбу.
Как сейчас понимаю, я соорудил гротоподобный парус. Постоянный, плотный и иногда сильный ветер вырывал парус из моих рук. Несколько раз чуть было не получил рейкой по голове. Она вела себя как настоящий гик. Но про это я узнал спустя несколько (четыре) десятков лет. Какое это приятное ощущение чувствовать ветер в парусе. Даже если этот парус старая клеёнка. В общем. эксперимент удался. Этим же вечером, отец, вернувшись с рыбалки, снял парус, и клеёнка была оправлена на дальнейшее использование в семейном хозяйстве. Обошлось без репрессий, нравоучений и уточнений границ дозволенного.
Очень благодарен своим родителям за их потрясающую долготерпимость по отношению ко мне. Высказывание Гая Юлия, который был Цезарем, про «Вени, види, вичи» (Пришёл, увидел, победил) я тогда (в детстве) не знал, но многое делал именно так. Родители почти всегда оказывались перед уже свершившимся фактом.
Сейчас очень часто перед свершившимся фактом или бесповоротно принятым решением оказываются мои близкие. Моё решение о прохождении практики было таким же обычным, неожиданным и бесповоротным. Вени, види, вичи. Нет, лучше так как это прозвучало или было написано в 47 году до нашей эры, т. е. в первоисточнике – Veni, vidi, vici. Хотя, вероятно, оно сначала прозвучало, потом было написано, прочитано и снова прозвучало.
Приехал/прилетел на практику. Прошёл не без приключений. Ну такие, не опасные приключения. Сначала вывалился за борт, потом случайно получилось продиагностировать неисправность. После того как её устранили/починили, возгордился и дня через два, при диагностике очередной неисправности, сломал один из важных механизмов. Сломал настолько хорошо, удачно и невосстановимо, что вся наша практика, для всех практикантов чуть было не «накрылась медным тазом».
В связи с эти был отлучён не только от дальнейших ремонтов, но и диагностик и ко мне был приставлен один из курсантов (они менялись по очереди) присматривать за мной, дабы не сделал ещё что ни будь с яхтой или собой. Александр, который был нашим капитаном инструктором, очень правильно посчитал, что лучшее моё местонахождение – постоянно на виду и не на яхте.
Через некоторое время, после многочисленных, но безуспешных попыток вызова помощи, наше дальнейшее будущее чётко разделилось на два возможных варианта. Первый реальный – прерываем практику и улетаем по домам и второй – из области абсолютно ненаучной фантастики – чиним яхту и продолжаем практику. Большинство предпочли первый вариант, но до начала его реализации оставалось какое-то время (ближайший самолёт – завтра утром) и мне разрешили (под присмотром) заняться реализацией второго варианта. Я думаю, что не ради попытки исправить содеянное, а для того чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей и самоедства.
Хуже, чем я уже сделал, сделать было невозможно. Но это официальная версия. Я знаю, что «хуже» имеет бесконечное продолжение, а вот «лучше» – оно конечно. Очень часто «лучше» это то что есть здесь и сейчас. Поэтому восхищаться нужно настоящим, а не ждать будущего. В случае с яхтой, ещё меньше двигаться, чем сейчас, когда она не двигалась совсем, было невозможно. Хотя её можно было случайно затопить. Но сейчас не про это.
В течение пары часов я, Лёша и Вера, из деталей не очень высокого качества, купленных нами в ближайшем строительном магазине, и оцененных инструктором как «говно какое-то», восстановили работоспособность яхты. Как всё-таки велика и неистребима вера русского человека (русский – в данном случае не национальность, а менталитет) в чудо. Все курсанты (нас было трое) внесли свой добровольный и посильный вклад в реализацию этого чудесного восстановления.
Александр единственный, кто в этом не участвовал, дабы не взирать на это безобразное безумие и не травмировать свою морскую стармеховскую душу. Но он тоже был абсолютно русским и, несмотря на свой колоссальный опыт поломок и ремонтов, тоже верил в то, что чудеса случаются. Поэтому позволил нам попытаться, взяв с нас обещание, что хуже, чем сейчас, мы постараемся не сделать.
Во время ремонта он почти постоянно находился в своей каюте. Нет, не совсем постоянно – пару раз пытался выйти, но видя, чем мы занимаемся, как и из чего созидаем, запирался в каюте снова. Что-либо советовать нам было бесполезно. Три измазанных мазутом и исцарапанных деталями яхты курсанта, с безумным блеском в глазах, что-то мастерили без чертежей и понимания конечного результата. К удивлению Александра, восхищению и восторгу команды (сам я тоже в очередной раз офигел от своей везучести), «медный таз», грозивший накрыть нашу практику исчез. Оно заработало!
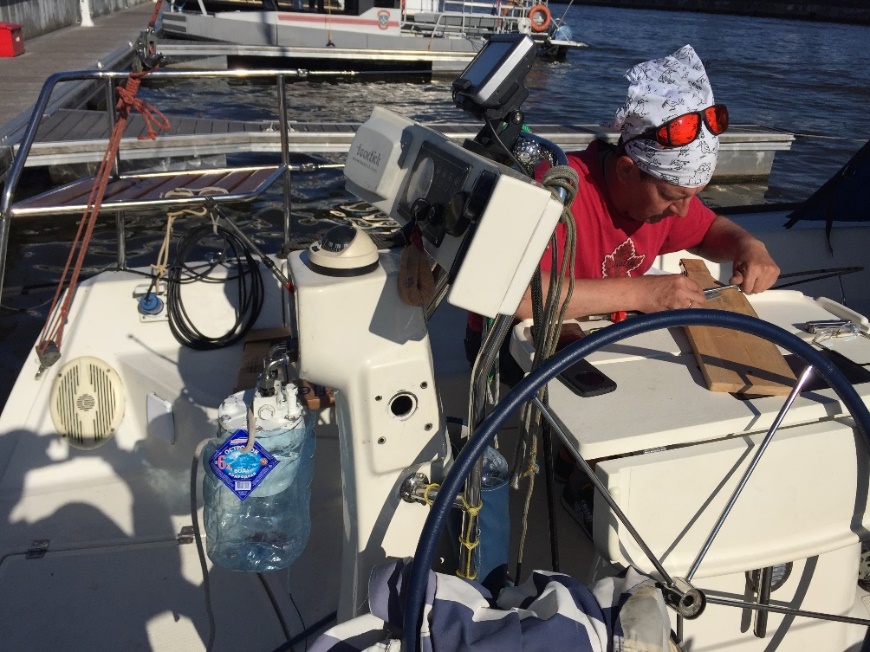
При ремонте использовались детали из строительного магазина, пластиковые хомуты и деревянная палка в количестве одной штуки. Скотч у нас был, но мы его не использовали. Как сказал Александр, проведя швартовые испытания (это когда не отходят от пирса), «собрали из говна и палок», но работу принял. Он был (есть сейчас и пусть будет и дальше) очень скуп на высокие оценки, но его своеобразная интеллигентность не позволяла озвучивать низкие оценки. Поэтому все наши старания, точнее результаты стараний можно было прочитать в выражении лица и поведении. А может всё это я сам себе придумал.
Да, то, что мы сваяли выглядело не идеально, если заглянуть внутрь, а снаружи – как новое. Оно надёжно отслужило нам всё остальное время (10 дней, >100 морских миль), постоянно испытывая повышенные нагрузки. Вероятно, оно послужило ещё и после нас, но я очень надеюсь, что эту нашу очень надёжную, самолепную систему, всё-таки, поменяли на нормальный исправный механизм.
Считаю, что умение соорудить, сваять или починить что угодно из подручного материала, без внешние помощи и консультаций, на своё разумение, страх и риск – это показатель выживаемости. У нашей команды он оказался достаточно высоким.
Практика мне понравилась. Кроме того, что я научился управлять яхтой и был сертифицирован на звание «дейшкипера» (это когда только днём, только в хорошую погоду, не дальше 20 морских миль от берега (на таком расстоянии берега с яхты не видно) и на яхте не более 24 метров (это что-то крейсероподобное)), я привык быть и жить на яхте. Во время практики я неофициально и, как-то негласно, но большинством голосов, был назначен «держателем «общака»» и на роль кока. С этим повезло не только мне, но и команде. Ничьё пищеварение не нарушил. Никто не жаловался. На камбузе никаких роковых ошибок зафиксировано не было. Они были, но не роковые и на пищеварении не отразились. Процесс пищеварения, по отзывам команды, если и отличался от обычного, домашнего, то только в лучшую сторону.
В остальном, если следовать пословице «Не ошибается тот, кто ничего не делает», то, судя по количеству ошибок, я сделал очень много. Моё покаяние после окончания практики, в котором я начал перечислять свои, незамеченные другими ошибки, было прервано едва я дошёл до трети. Все решили, что отсутствие полной информации о содеянном мною, благотворно отразится на их дальнейшем спокойном сне. Так всегда по жизни – моя полезность не обнуляется, но очень нивелируется моими ошибками. Свои ошибки я всегда исправляю сам. Считаю это очень хорошим качеством. А более подробно яхтенную практику я описал в книге «Калининградские хроники» (пока только электронной, но бесплатной и общедоступной). Поэтому копировать её сюда не буду.
А ещё Александр нас научил, что «жизнь заканчивается, как только отдан последний швартов и начинается выживание». Очень правильно и это высказывание можно применить к любому перемещению из точки А в точку В.
Когда вернулся с практики. Жена недели две смотрела на меня очень настороженно, а потом спросила, «И что мне с тобой таким делать?». Я немного изменился. Я попробовал яхтинг, мне он понравился. Всё как хотел. А вот то, что я изменился, этого не предполагалось. Я тоже не был готов к этим изменениям, но они произошли. Точнее не то, что изменился я сам (сам на себя снаружи не глянешь), а то, как изменилось моё восприятие окружающего мира.
Мы (люди) очень часто изменения себя интерпретируем как изменение того, что нас окружает. Это важно, но сейчас хочется рассказать не про это, а про следующее моё желание – про восхождение на Эльбрус.
И наконец – основные части моего повествования про Эльбрус и мои восхождения. На момент написания их было два.
Эльбрус. Первая попытка
Изменённый шкиперской практикой, я решил не только не откладывать попытку восхождения на долгий срок, но и реализовать это своё желание сразу. Совсем сразу. Ну, чтобы все желания оптом. Спасибо работодателю, который позволил мне взять ещё один отпуск (хотя это достаточное хамство так часто брать отпуска). Спасибо жене, что не махнула на меня рукой и абсолютно смирилась с тем, что понятие «тщательно подготовиться» для нас имеют разные значения, а «потом» во временном выражении – разные отрезки времени. Для меня «потом» – это то, что не прямо сейчас.
Для неё «потом» – это после тщательной подготовки. А «тщательно подготовиться» – это узнать маршруты, стоимость путёвок, прочитать отзывы, подготовиться физически, найти страховку с вертолётной помощью, купить необходимое, соответствующее снаряжение и одежду. Возможно пройти обучение… Обязательно идти в составе группы. Выбрать подходящий для восхождения сезон… Для меня – собрать рюкзак, купить билеты.
Собрал рюкзак, купил билеты, созвонился с одним из пристанищ, телефон которого случайно нашёл в интернете. По такому же случайно найденному телефону договорился о трансфере. Всё, готов!
Нет, предварительная подготовка всё же была. Я иногда посещал тренажёрный зал, благо он был в здании офиса. Ещё одно спасибо моей замечательной компании.
Она частная и не моя, но я в ней работаю, а русский язык позволяет такой оборот, по которому не понятно, хозяин ты в компании или наёмник. Наверное, любая компания, в которой человек достигает какого-то уровня или стажа работы, становится немножко его компанией. У меня, например, в «моей» компании моё рабочее место, которое сделано мною более уютным, благодаря моим прибамбасам и улучшениям. У меня в ней мои добрые знакомые. Я старательно (насколько могу) делаю её (компанию) лучше или, по крайней мере, также, на сколько удаётся, стараюсь не сделать её хуже. Т. е. в ней есть моё участие. Она немножко моя. И это правильно, потому что даже для владельца компании, компания немножко не его. Т. е. она, конечно, его, но не вся. Как раз на ту часть которая в т. ч. моя.
В рамках подготовки к восхождению я насмотрелся фильмов и роликов-ужастиков про «покорение» вершин, риски, тяготы и лишения. Прочитал несколько статей про горную болезнь, горную эйфорию, обморожения, переломы, падения в трещины, гибель на обледенелом склоне (альпинисты называют такое обледенение «бутылочное стекло»), отёк мозга и отёк лёгких…
Не смотря на огромное количество почти объективно безрадостной информации, желание побывать на вершине не отпустило. Оно не стало сильнее или слабее. Оно стало каким-то привычно-обычным. Я свыкся с мыслью, что всякое бывает. И то, что вот это всякое, кроме того, что бывает ещё и случается – это совсем не повод отказываться от своих желаний.
С помощью Гугл и Яндекс карт осмотрел, насколько они позволили, местность, а в МапсМи (без рекламы – просто очень удобное для меня приложение, которое позволяет выбираться по оптимальному маршруту из самых запутанных лабиринтов. Например – старая Генуя, тёмным вечером. Если вы там не были – побывайте, но не забудьте МапсМи) даже проложил свой маршрут (отбил точки). Узнал, что Эльбрус, несмотря на кажущуюся доступность, тоже имеет свою статистику зарегистрированной смертности. Почему зарегистрированную? Потому что эта статистика учитывает только тех, кто отметился в МЧС о том, что пошёл и не вернулся. Большинство таких находят. Не всех, но очень большую часть. А неизвестно какая часть не регистрируются в МЧС, поэтому про них не знают и только иногда случайно натыкаются на брошенные, заметённые палатки, замёрзшие тела или оттаявшие внизу ледника части скелетов.
А что же по поводу обоснования этой своей мечты/желания. А я просто не стал это объяснять и обосновывать. Хочу и всё! Зачем? – Не знаю, но обязательно сделаю. И всё стало тихо, спокойно и понятно. Взгляды окружающих сменились с вопросительно-осуждающих на понимающе-сочувствующие. Для меня понятно, что попробую взойти без обоснования. Для окружающих – то, что я ненормальный. Девиантный (отклоняющийся), но не негативный, т. е. не представляющий прямой опасности.
Ещё в самом начале пообещал пофилософствовать на тему покорения вершин. Так вот, считаю, что это неправильное наименование действия и многие не вернувшиеся поплатились жизнью именно за это. Это моё субъективное мнение, сформулированное самостоятельно. Отстаивать его не буду. Настаивать на правильности не намерен. Выслушивать критику и споры, тоже не буду, т. е буду не слушать, а слышать, но пофиг. Вот оно (мнение) есть и есть. Ему можно следовать, но я не даю гарантий, что оно правильное. Его можно отрицать, и я на это даже не обращу внимания. Это по поводу мнения. А дальше то, как я к этому мнению пришёл.

Очень показателен маршрут восхождения на Эверест. В одном из мест этого маршрута, точнее в двух, альпинисты просят. В монастыре просят удачи, а в базовом лагере просят гору, чтобы она их пустила. Пока всё нормально. Идут такие, страдают, терпят лишения. Многих гора пускает и вот тут, недавно смиренный проситель вдруг превращается в покорителя.
Стоя на вершине – «Ура, я покорил!». Кого и что ты покорил? Тебя пустили как приличного человека. Взошёл, восхитился, полюбовался и двигай потихонечку в лагерь, пока ничего не случилось. Да, не забудь поблагодарить. Но нет, гордость распирает грудь, ноги попирают «покорённую» вершину. Я думаю, что если вот это поведение перевести на человеческое, то это обыкновенная подлость и обман. В обществе таких не любят и часто наказывают. Так же и гора может относиться к горе-покорителям. Возможностей не дать спуститься у неё масса. Хотя есть предположение (моё), что в некоторых социумах обман и подлость являются нормой жизни. Но я стараюсь изначально думать о всех хорошо и меняю свое мнение на обратное после долгих, частых и настойчивых просьб.
Готовясь к восхождению, я понимал, что если оно произойдёт, то только по воле счастливого случая. И нужен был второй счастливый случай, чтобы спустится. Я собирался не покорять, но испытать себя. И спуститься. Да, есть люди, которые наперегонки забегают на вершину и спускаются. Видел нескольких таких воочию. Но они моложе меня, не курят и не сидят целыми днями в офисе, а постоянно занимаются спортом. Я немолодой, курящий «офисный планктон», изнурять тренировками себя не собирался, не собрался до сих пор. Курить не бросил. Мечтать – тоже. В общем – решение было принято, «Рубикон перейдён!».



