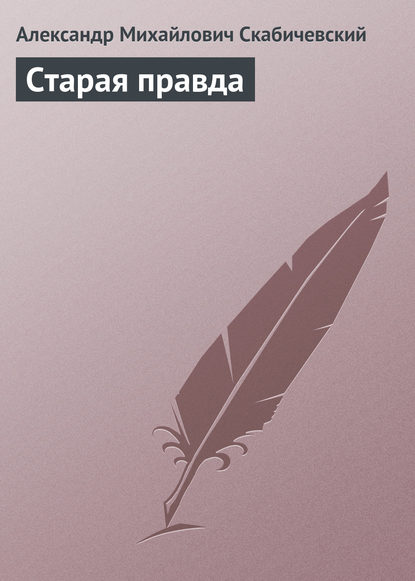 Полная версия
Полная версияСтарая правда
Из-за чего же так распиналась бабушка, и в чем заключался ее грех? А в том, вот видите, что раз в жизни своей, когда она была еще молода, бабушка решилась быть женщиной, а не куклой только в руках своих родных. Ее насильно выдавали за графа, а она любила соседнего помещика Тита Никоновича. Граф застал сцену свидания Татьяны Марковны с ее возлюбленным ночью в оранжерее – противники чуть не подрались, но Татьяна Марковна их развела, и они дали друг другу слово: граф, что он этой истории не огласит, а Тит Никонович – что он на Татьяне Марковне не женится. Так бабушка и осталась весь век свой девушкой. Мы не будем много распространяться о том, до какой степени лишена всякого человеческого смысла эта драма старого времени, в которой все счастье женщины было разбито из-за родовых предрассудков, из-за малодушной жалкой боязни огласки того, чем люди должны были гордиться, и из-за смешной рыцарской щепетильности, из-за которой два существа, любящие друг друга, решились на весь век остаться чуждыми один другому, потому что в их отношения вмешался дрянной негодяй, взявший с них совершенно бесчеловечно, бесцельно слово, что они никогда не сойдутся!.. И на эту драму своей юности, в которой все, что было человеческого в Татьяне Марковне, ее любовь, самостоятельность в выборе предмета чувства, права на счастье, – все это было попрано самым возмутительным образом, – на подобную драму Татьяна Марковна смотрела, как на свой собственный грех, как на свое преступление, за которое, вот видите ли, провидение наказало ее падением Веры! Вы подумайте только, есть ли здесь хоть одна капля здравого человеческого смысла? Но курьезнее всего здесь не сама Татьяна Марковна, которой могло и в голову не прийти ломать страшные комедии и которая смело может заявить свой протест против разгулявшейся фантазии Гончарова в таком роде, что «батюшка, мол, Иван Александрович, что ты за чучело из меня сделал, за что ты меня срамишь: уж мне-то на старости лет отнюдь не пристало разыгрывать французские мелодрамы. Не ты ли сам расхваливал меня во всех пяти частях романа за то, что хоть я по французским книгам и не училась, а во мне много таится самородного здравого смысла, такта, сдержанности, проницательности, знания человеческого сердца и уменья верно оценивать людские отношения, – и вдруг ты заставил меня, как дуру шальную, шататься по полям, бог весть для чего, только людей тревожить, да Веру еще пуще расстраивать… Ведь я еще из ума не выжила и хорошо понимаю, что этим беды не сбудешь, а пуще только раздуешь ее; только слабые и тщедушные люди мечутся и руки ломают при первом горе, а мне приходится сейчас же поспокойнее за дело приниматься, замазать, заклеить, что можно, Веру как-нибудь утешить да скрутить ее поскорее за Тушина, вот мое дело, а не по полям шляться без пути!»
Курьезнее всего здесь сам Гончаров, который, заставивши бабушку разыгрывать сцену лунатизма леди Макбет, сам умиляется перед своей фантазией и доходит до такого пафоса, что сравнивает Татьяну Марковну с разными историческими героинями древних и новых веков:
«Это не бабушка! – с замиранием сердца, глядя на нее, думал Райский. Она казалась ему одною из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души – нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать! У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушке: виделась ему в ней – древняя еврейка, иерусалимская госпожа, родоначальница племени – с улыбкой горделивого презрения, услышавшая пронесшееся в народе глухое пророчество и угрозу: «Снимется венец с народа, не узнавшего посещения», «Придут римляне и возьмут!» Не поверила она, считая незыблемым венец, возложенный рукой Иеговы на голову Израиля. Но когда настал час – «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда пал неотразимый удар, встала, сняла свой венец и молча, без ропота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах пошла среди павшего царства, в великом безобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы, и так же – как эта бабушка теперь – несла святыню, страдания на лице, будто гордясь и силой удара, постигшего ее, и своей силой нести его… Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы и как будто распорядительницей судеб вольного города».
Гончаров упустил из виду здесь то, что в судьбе женщин, которыми он любуется, было трагично именно то, что он гонит, преследует и отрицает в женщинах и чего в Татьяне Марковне не было и тени: трагично в них было увлечение интересами общественного свойства, увлечение той или другой великой идеей своего века, для которой они жертвовали не только какими-нибудь узкими, эгоистическими страстишками – но жизнью. И такие великие святые личности, записанные историей, идут у Гончарова в сравнение с Татьяной Марковной Бережковой, весь трагический пафос которой основывался на чувственном задоре внучки и мелочных, пошлых расчетцах заплесневелого уголка!
XИз всего этого разбора, я полагаю, ясно можно видеть, что и без переделки на современный лад роман заключал бы в себе не малое количество невыдержанности, искусственности, ложного, надутого пафоса и нелепостей разного рода. Теперь мы посмотрим, что сделал Гончаров из своего романа, переделавши один из главных типов в духе современных нравов.
Вместо неизвестного нам героя в романтическом духе с донжуанскими наклонностями, перед нами парадирует в романе представитель молодого поколения, архинигилист Марк Волохов.
Создал Гончаров своего Волохова очень просто и незатейливо. Твердя в своем романе все о правде да о правде, то о новой, то о старой, – Гончаров упустил из виду в то же время одну правду, которая для него, как создателя романа, была всего нужнее: правду художественную. Ему и в голову не пришло, что для создания типа молодого поколения необходимо было ему хоть немного посвятить времени живому наблюдению этого поколения, хоть сколько-нибудь всмотреться в жизнь, нравы, стремления молодежи – всмотреться собственными своими глазами, не довольствуясь одними ходячими слухами, готовыми стереотипными представлениями, которые сложились в пошлой, праздной и легкомысленной толпе. Гончарову показалось, что этих слухов и стереотипных представлений совершенно достаточно, чтобы создать представителя целого поколения и произнести суд над ним. Он так и сделал. Всем известно, какие готовые приговоры о молодежи ходят по разным гнилым трущобам нашего общества. Молодежь, говорят, впавши в материализм, отвергает духовную сторону человека, отрицает всякие нравственные принципы, смеется над браком и допускает только одни чувственные наслаждения. На основании этих ходячих слухов Гончаров изобразил в лице Волохова человека, твердящего, что жизнь людская больше ничего, как бесцельное кружение пылинок в воздухе, и склоняющего Веру на птичью любовь до завтрашнего утра, чтобы упиться взаимными наслаждениями и разойтись в разные стороны. Молодежь, говорят, отвергает все изящное, всякие удобства жизни – все созданное цивилизацией: и вот Гончаров заставил своего Волохова жить в телеге, ходить растрепанным и грязным, как, по мнению Гончарова, подобает архинигилисту. Молодежь, говорят, отвергает собственность – и Гончаров заставил Волохова лазить по заборам в чужие сады за яблоками, брать деньги без отдачи; надевши платье Райского, без церемонии объявить ему, что платье пришлось ему впору и он его не отдаст. Молодежь, говорят, отвергает всякий общественный порядок – и Гончаров заставил Волохова стрелять в людей, травить собаками женщин, лазить в окна, брать приступом трактиры и проч.
Создавши таким образом тип не индуктивно и не из наблюдений над жизнью, а чисто дедуктивно из ряда ходячих пошлых сентенций, Гончаров представил перед нами не человека, а какое-то квазимодо, лишенное всякой реальности. Все прочие беллетристы одной школы с Гончаровым, и Тургенев, и Писемский, и Достоевский, и даже Ключников, в каком только ложном свете они ни пытались представить молодое поколение, во всяком случае имеют то преимущество перед Гончаровым, что они в молодом поколении видели хоть и заблуждающихся людей, но во всяком случае людей. Они не отвергали в них таких качеств, которые делают честь всякому человеку, каких бы он ни был убеждений: трудолюбия, честности, способности любить глубоко и прочно, наконец самопожертвования; они осмеивали и отрицали только принципы, убеждения и стремления молодого поколения, считая их с своей точки зрения ложными. Достоевский в лице Раскольникова изобразил злодея, совершившего убийство на основании ложного принципа, но и к этому злодею он отнесся не без гуманности: он не бросил в него камнем желчного, злобного порицания; он не решился с тоном высокомерного бесчеловечия ткнуть пальцем убийцу и объявить, что мы не ждали в этом злодее и тени чего-либо человеческого: напротив того, и в убийце он сумел уловить биение человеческого сердца.
Гончаров же в своем изображении Марка Волохова унизился до Стебницкого и Авенариуса. В лице Марка Волохова он изобразил экстракт всевозможных гадостей: наглости, чувственности, распущенности, низости, злости и проч., отвергнувши в нем всякую возможность чего-либо человеческого. «Волком, – говорит он о Марке Волохове, – звала она тебя в глаза шутя, теперь не шутя, заочно к хищничеству волка – в памяти у нее останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого следа – о человеке!..»
Вы подумайте только, сколько нужно накопить желчного, слепого озлобления, гордого самомнения и бесчеловечного высокомерия, чтобы отвергнуть все человеческое в людях, которые дерзнули не разделять наших убеждений! Неужели Гончаров думает, что он раскрыл в истинном свете заблуждения своих противников, представивши их в виде отвлеченного экстракта разных мерзостей неестественного, мелодраматического злодея, исчадия ада, изрыгающего из себя зло и зло… И это сделал Гончаров, художник реальной школы, завещанной Гоголем… Это называется стремиться к художественной правде, брать образцы для своих произведений из жизни, глубоко изучая их в самой действительности! Но курьезнее всего, что, изобразивши в лице Марка Волохова безобразное чудовище, лишенное всяческого человеческого смысла, Гончаров заставил в то же время в это чудовище влюбиться лучшую свою героиню, которую он на каждой странице превозносит за глубину природы, проницательность ума и тонкость женского инстинкта, умеющего многое верно угадывать прежде, чем что-либо дойдет до ясного сознания!
Как знатоку по части теории влюбчивости, чем так славятся все беллетристы сороковых годов, Гончарову, я полагаю, должно быть очень хорошо известно, что как бы ни была нелепа иногда влюбчивость, во всяком случае она должна иметь свою иллюзию, на которой она необходимо основывается. Женщина под влиянием страсти может до некоторого времени ошибаться в мужчине, объяснять в хорошую сторону все физические, нравственные и умственные недостатки своего возлюбленного; – но как бы ни была сильна такая иллюзия, она все-таки имеет границы, далее которых она невозможна. – Посмотрим же теперь, чем могла увлечься до самозабвения Вера в Волохове, если только она была женщина действительно с умом, проницательностью и т. д. До своего знакомства с ним она могла заинтересоваться им, как человеком необыкновенным, выходящим совершенно из круга обыденной жизни. Слыша о разных его курьезах, могла думать, что они логически вытекали из какого-то нового учения, о котором она не имела никакого понятия; из неосновательности поступков Марка, она могла заключать о неосновательности учения, которым Марк увлекся, самая же личность Марка оставалась для нее еще неприкосновенною; она не могла еще ни увлекаться ею, ни питать к ней презрения или отвращения. Ей во всяком случае любопытно было увидеть, что это за птица этот Волохов. Наконец она его увидела: он сидел на заборе и рвал яблоки из ее сада, немедленно же объяснил ей, что он делает это на основании принципов Прудона, провозгласившего, что собственность есть кража. – Затем он начал с ней видеться и давать ей те новые книги, из которых он извлекал свои принципы, в том числе и Прудона.
Мне кажется, что этого одного совершенно достаточно, чтобы в Вере не возникло никакой иллюзии относительно Марка. Если только Вера обладала хоть каплею ума, то, прочтя трактат Прудона о собственности, она с удивлением увидела бы, что между принципами Прудона и ворованьем яблоков из чужого сада нет ни малейшей логической нити, никакой точки соприкосновения; заблуждение Марка могло возбудить в Вере участие и желание воротить его на верную дорогу только в таком случае, если бы это было логическое заблуждение глубокого ума, который бы сказывался в самых крайностях заблуждения. Вот если бы на основании Прудона Марк Волохов объявил Вере, что он никогда в жизни не позволит себе съесть ни одного куска, который бы он не заработал честным, производительным трудом, а относительно яблоков заметил бы, что они должны принадлежать не Вере, не ему, Марку Волохову, а тому садовнику, который прилагал свой труд к произращению их, в таком случае Вера, прочитавшая Прудона, увидела бы, что слова Марка прямо истекают из прудоновских принципов, могла бы с своей точки зрения видеть в словах Марка заблуждение, но видела бы заблуждение умного человека, способного понимать и усваивать что читает; такое логическое заблуждение могло возбудить в Вере участие, желание спорить с Марком и по возможности обратить его на свою сторону. – Но в применении принципов Прудона к ворованию яблоков из чужого сада Вера ничего не могла увидеть, кроме безумного и дикого скачка идиота. Ну, а где женщина видит идиота, там плохая надежда на какую-либо иллюзию и влюбчивость.
(Гончаров, заметим в скобках, или не читал Прудона и имеет о нем очень смутное понятие, или если прочел, то понял его принципы a la Волохов… Но последнее предположение мы отстраняем; оно было бы слишком уж оскорбительно для Гончарова).
Таким образом, пытаясь изобразить в лице Веры сильную, недюжинную личность и вдруг заставивши увлечься эту недюжинную личность какою-то смешной и жалкою пародией на человека, олицетворенною карикатурою, Гончаров окончательно разрушил всякую иллюзию романа. – Неужели Гончаров ослеп до такой степени, что не замечает, как этим самым глубоко унижает он свою героиню? Чтобы допустить возможность падения Веры с обрыва при таких условиях, нужно предположить что-нибудь из двух: или Вера сама была настолько слаба разумом, что очевидный, ничем не прикрытый идиотизм Марка Волохова остался ею не замеченным до конца романа; или же это была в такой степени распущенная натура, что, замечая идиотизм Волохова с самого начала знакомства с ним, споря постоянно и ни в чем не сходясь, она все-таки решилась пасть в его объятия, – это уж черт знает что такое!
XIНо этим всем еще не исчерпывается вся дикая несообразность романа. – До сих пор мы ограничивались только разбором произведения Гончарова с точки зрения чисто эстетической: мы старались показать, как слаб роман со стороны выдержанности сюжета, характеров, иллюзии. Если же мы теперь коснемся философии Гончарова, то забредем в такой девственно-непроходимый лес, из которого выбраться нет уже никакой человеческой возможности.
Вся философия, которую Гончаров рассыпает в разных местах своего романа, заключается в том, что он постоянно защищает старую правду перед новой. Что же разумеет Гончаров под новой правдой и под старой?
Из типа Марка Волохова мы могли бы извлечь то заключение, что под новой правдой Гончаров разумеет учение, отрицающее всякие нравственные принципы и проповедующее жизнь необузданного сенсуализма. – Такое понятие о новой правде Гончаров ясно формулирует перед нами в следующих словах:
«Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни».
Но сейчас же вслед за этой фразой Гончаров говорит совершенно другое:
«Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, – не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой цивилизации, которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении».
Как же это так? Значит, новое учение проповедует не одну животную жизнь, а в нем есть доброе и верное, и Гончаров не только не имеет права пенять, что это доброе и верное не ново, а он должен радоваться этому, так как, по его мнению, это доброе и верное взято из того же старого учения, защитником которого он является перед нами. Но если только Гончаров признает, что в новом учении есть хоть одна черта добрая, верная, тогда что же значит вышеупомянутая фраза, будто новое учение, оставив себе одну животную жизнь, не создало вместо отринутого старого никакого другого, лучшего идеала жизни, что же такое значит тип Волохова, в котором Гончаров не представил перед нами ни одной из тех верных, добрых черт, которые он сам же находит в новом учении? – Где же тут справедливость? ведь это значит – беззастенчиво клеветать и самому тут же выставлять свою клевету на позорище?
Но, может быть, это происходит просто из неведения, из-за того, что Гончаров имеет самые смутные и неопределенные понятия о новой правде, понятия сталкивающиеся, противоречащие друг другу, составленные из пошлых ходячих мнений самого разнородного свойства. Но что касается старой правды, то тут, конечно, мы увидим в Гончарове знатока, человека, глубоко вникшего в «дух и глубину книги старого учения», а не обольстившегося одной буквой добродетелей этого учения, подобно молодежи и «не требующего исполнения этой буквы с такой злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение».
Под старым учением Гончаров разумеет учение христианское, а под книгою этого учения, конечно, евангелие. Посмотрим же, как глубоко проникнут Гончаров принципами этого учения.
Нам известно, что христианские принципы советуют с величайшей осторожностью произносить свой суд над чем-нибудь: не судите, да не судимы будете осужденными, говорят они, и они готовы простить разбойника, если видят в нем хоть одну черту добрую и верную. И неужели же Гончаров думает, что он поступает по христианским принципам, произнося самый строгий и бесчеловечный суд над людьми, о которых он не имеет никакого понятия? С желчью и негодованием древнего фарисея он отвергает все человеческое в целом ряде людей, на основании одних уличных слухов, и этот же самый Гончаров сердобольно толкует о том, что старые принципы предостерегали против злобы и нетерпимости. Это ли называется проникать в дух и глубину старого учения? Но этого еще мало: нам известно, что христианские принципы восстали на тех иудеев, которые хотели забросать камнями заведомую блудницу. – Гончаров желчью и грязью бросает в женщин, о которых слыхал, по всей вероятности, только грязные сплетни праздной толпы:
«Он (то есть Марк Волохов), – говорит Гончаров, – сравнивал ее (то есть Веру) с другими, особенно «новыми» женщинами, из которых многие так любострастно поддавались жизни по новому учению, как Марина своим любвям, – и более падшими созданиями, нежели все другие падшие женщины, уступавшие воображению, темпераменту и даже золоту, а те будто бы принципу, которого часто не понимали, в котором не убедились, поверив на слово, следовательно, уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, например, жена Козлова, только лицемерно или глупо прикрыли это принципом».
Но знает ли Гончаров этих женщин, видел ли их? Что, если он клеймит публично названием жалких, пошлых, более падших созданий, чем все другие, – небольшую толпу бедных девушек, которым нечем жить, нечем питаться, которые в науке видят единственное средство существовать как-нибудь? Не поступает ли он во сто раз хуже тех иудеев, о которых мы выше упоминали? Во что обращает он принципы, которые берется защищать? Уж это одно заставляет нас думать, что под старою правдой Гончаров разумеет такие принципы, которые не имеют в сущности ничего общего с книгою, на которую он лицемерно указывает, и напрасно он прикрывает свои истинные принципы – принципами евангельскими, – он этим только оскорбляет последние.
А что нужно понимать под старой правдой Гончарова и каковы истинные принципы его, это открывается нам само собой из всего содержания романа. По мнению Гончарова, старая жизнь тем и отличается, что она основана на старой правде, что в ней вместе со старым злом таится и старое добро и что из-за живого, прочного, верного, заключающегося в старой жизни, можно простить ей смешные, вредные уродливости, весь отживший сор.
Но мы видели из картины, представленной самим Гончаровым, какова эта старая жизнь. Мы видели, что перед нами были не одни только смешные уродливости: в самой сущности, в самых основаниях своих эта жизнь не имеет ничего общего ни с какими-либо новыми учениями, ни с теми христианскими принципами, за которые Гончаров ратует. Это жизнь, основанная на таких же принципах узкого эгоизма, уничтожения личности и порабощения, на каких была основана ветхая жизнь древнего мира. Христианство восстало против этих принципов с той же силой, с какой в настоящее время вооружается и цивилизация, и совершенно напрасно Гончаров колет глаза современной цивилизацией за то, что в основу свою она положила многие истины, которые были открыты две тысячи лет тому назад; после этого Гончарову еще с большим презрением придется отнестись к математике, которая пользуется аксиомами, известными человечеству не две тысячи лет, а более. Стыдно в этом случае только тем людям, которые, живя в 1869 году, не доросли еще до истин не только современных, но и существовавших уже во времена Августа, и все еще исповедуют принципы, сгноившие древний мир. А мы имеем право думать, что Гончаров под видом старой правды защищает именно эти ветхие принципы. Иначе не мог же он так превозносить жизнь, которую он сам же изображает лишенною всякой прочности, иначе не стал бы Гончаров с желчной нетерпимостью и озлоблением, совершенно в духе древнего иудейства, отвергать все человеческое в людях, ратующих против всяких узких, эгоистических принципов. Откуда же, наконец, выходят все эти пресловутые ходячие мнения о молодом поколении, которые поддерживает и развивает Гончаров в своем романе, как не из той же почвы узких, эгоистических принципов? Вы подумайте только, какое бы мнение могли составить люди вроде Татьяны Марковны, Райского, Тычкова и пр. о действительно новом человеке, явившемся в их среду, новом в том смысле, что он всю свою жизнь осуществлял бы свои новые принципы. Это был бы, конечно, честный труженик, упорным, усидчивым трудом зарабатывающий себе пропитание, человек, который жаждал бы распространять вокруг себя истину и посильное добро, жил бы просто, не любя излишней роскоши, его занимали бы исключительно общие интересы, касающиеся улучшения массы его соотечественников, и он был совершенно чужд узких, эгоистических принципов. Над таким человеком, конечно, смеялись бы в бережковской среде, как над мечтателем, не умеющим жить и устраивать свои делишки, но его терпели бы до поры до времени, может быть старались бы даже покровительствовать ему, как несчастненькому. Но стоило бы только оказать ему малейшее влияние на кого-либо из бережковской среды, – и будь он чище алмаза, нравственнее самой нравственности, – на него не замедлили бы посмотреть, как на исчадие ада, как на чудовище безнравственности. Вы подумайте только, что произошло бы в доме Бережковых, если бы только человеку этому удалось убедить Веру, что жизнь ее бесцельна, пошла, лишена всякой правды, что всякое нравственное учение, какое хотите, старое или новое, требует, чтобы человек в поте лица своего зарабатывал себе хлеб, чтобы он угождал не одному своему чреву, а жил на пользу ближних, и Вера пошла бы за этим человеком – на самую чистую, самую высокую жизнь честного труда… Разве родные Веры поняли бы всю высокость подвига ее и все благотворное влияние на нее нового человека? Для чего этот человек увлек за собой девушку? – подумали бы они. – О, конечно, для того, чтобы растлить ее и бросить в омут разврата… Эти люди, сами растленные до мозга костей, никак не могли бы понять, чтобы у мужчины, если он не представляется им в виде выгодной партии, могут быть какие-нибудь иные, высшие принципы по отношению к женщине, кроме одних клубничных. Какую бы потом высокую, чистую жизнь ни вела Вера в новой сфере своего существования, во всяком случае, на нее смотрели бы эти люди, как на женщину погибшую, падшую, и в жизни ее грезился бы их развращенным воображениям один голый разврат. Они оплакивали бы падение Веры уже потому, что она, вместо того, чтобы быть праздным украшением салона Тушина, идолом, поставленным на треножник и окруженным благоговением со стороны пламенного обожателя, – была бы принуждена своими трудами зарабатывать черствый кусок хлеба и божественная красота, сияющая статуя – учила бы ребятишек, шила бы манишки или, что еще хуже всего, бабничала бы. Вера Бережкова бабничала бы… Какой позор всему роду Бережковых!.. Сколько бы из-за этого одного туров вокруг усадьбы могла сделать бабушка, ломая руки и видя во всем этом наказание за свой собственный грех!.. И всему виною был бы бесчеловечный, черствый злодей, развратитель. Да что, конечно, можно было бы ожидать от наглого циника, бездомного нищего… Разве такие люди могут ценить красоту, окружать ее поклонением, беречь и холить? Разве они понимают какие-нибудь высокие принципы, изящные чувства? Разве они имеют понятие о настоящей любви? Если бы человек этот действительно любил Веру, он не увлек бы ее в жизнь нищеты и низкого труда, не заставил бы ее чахнуть над работой, он позаботился бы составить поскорее карьеру, занять выгодное место – и тогда только явился бы и положил у ног ее прочное счастье. А он поступил совершенно как черствый эгоист, развратник, который смутил девушку, заботясь только о себе, о том, как бы удовлетворить поскорее своей низкой страсти, не налагая на себя высокой нравственной обязанности – даровать счастье любимой женщине. Впрочем, что ж, таковы и все они, новые люди, таково и учение их, – чистый материализм, отрицание всего высокого, изящного, всяких нравственных принципов. Поди-ка, у него двадцать таких Вер, совращенных с истинного пути, и может быть Верочка, увлеченная пагубным учением, бог весть как низко пала… и т. д.



