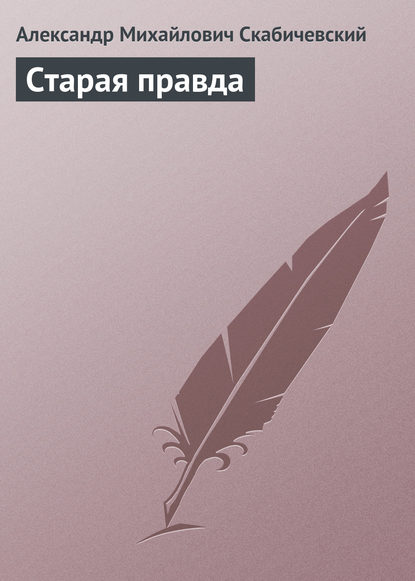 Полная версия
Полная версияСтарая правда
Теперь мы обратимся к такой стороне родового быта, которая была всегда ахиллесовою пяткою этого порядка вещей, его больным местом, рогаткой, о которую не один род спотыкался и терял разом все, что накапливал иногда столетиями.
Мы уже сказали, что один из принципов родового быта заключается в стремлении рода подчинить своим общим интересам отдельную личность. Отсюда проистекает вечное стремление личности освободиться от такого гнета. С этим явлением мы теперь и будем иметь дело. Между тем как родовой быт стремится втиснуть все в свои узкие рамки и все человеческие стремления приурочить к тем или другим родовым интересам, из своих же собственных недр он постоянно выпускает силы, враждебные всякому регулированию, разрывающие все рамки и плотины и вырывающиеся широким, всеувлекающим потоком. Путем ли наследственного подбора, или других обстоятельств, но только весьма нередко в роде являются младшие члены с такими сильными страстями и деспотическими наклонностями, что никакой строгий, даже до зверства гнет не в силах подавить их. Люди с такими наклонностями с самого детства выбиваются из рук старших; насилие не покоряет их, а только ожесточает, и, когда они вырастают, вся жизнь их идет наперекор условиям, правилам и интересам родового быта.
Но не надо думать, чтобы такие явления были следствием непременно сознательного протеста, принадлежащего известному времени и возбужденного каким-нибудь исключительным учением. Напротив того, чаще всего они являются совершенно бессознательными, чисто стихийными взрывами сил, не вмещающихся в узкие рамки родовых условий. Нередко люди с такими наклонностями в душе своей вполне искренно исповедуют родовой кодекс, уважают все добродетели, предписываемые им, но в то же время не могут совладать сами с собой, уложить свою жизнь в рамки этих добродетелей и вечно мучаются внешним и внутренним разладом, пока не делаются жертвами этого разлада или молодая энергия не угаснет в них сама собою с летами. Явление таких типов мы можем проследить на почве родового быта через все века, начиная с самых отдаленных: Каин, убивший брата Авеля и бежавший из родительского дома; Алкивиад, не ужившийся с своими гражданами и изменивший отечеству; какой-нибудь герой тридцатых годов в байроновском духе; отчаянный донжуан, бреттер и игрок или купеческий сынок XVII и XVIII веков, промотавший отцовское добро и сделавшийся разбойником, – все это явления вполне аналогические, хотя и принадлежат к совершенно различным эпохам и обществам.
В то же время было бы совершенно ошибочно полагать, чтобы эти взрывы сил сами по себе были способны поколебать родовой быт в его основаниях. Для этого необходима еще одна сила, которой в подобных явлениях никогда не было. Дело в том, что родовой быт, как ни тесны его рамки, как ни искажает он существование людей, во всяком случае представляет в себе выработанную веками положительную систему жизни, глубоко укоренившуюся во всех отношениях людей. Уничтожить эту систему возможно только системою же более широкою, удобною для жизни – но в то же время настолько же положительною, как и прежняя. Сила новых идей, одерживающих с каждым десятилетием новые и новые победы над дряхлою и разлагающеюся сферою родового быта, в том именно заключается, что эти новые идеи во всей своей сложности представляются положительной системой, в которой укладываются все страсти и силы людей, как они укладывались в старой системе, только более естественно и свободно. В этом отношении различные обскуранты и охранители ветхой жизни глубоко и жалко ошибаются, видя в новых идеях только ряд отрицаний и антитез относительно старых учений. Они смешивают безразлично сознательный протест против родового быта со стороны новых идей с бессознательными взрывами сил, о которых мы говорим. Взрывы были действительно бессильны произвести какое-либо движение, потому что они были всегда явлениями чисто отрицательными: вырываясь из оков старого быта, сильные натуры не предлагали ничего нового, кроме жизни, полной беспорядочного разгула, без всякой системы, без всякой цели; но такая жизнь совершенно противна человеческой природе, против нее вооружается в человеке все, начиная с чувства самоохранения; – вот почему сами протестующие кончали часто тем, что возвращались к тем же старым системам жизни, из которых сами вышли, с тою только разницей, что избирали себе роль не притесненных, что было не в их натуре, а притеснителей, к чему им весьма удобно бывало прилагать свои могучие силы.
В тридцатые, сороковые и пятидесятые годы в образованном меньшинстве нашего общества подобные явления совершались обыкновенно на почве романтизма, который служил отличным подспорьем для этого. Не давая ничего положительного, романтизм в то же время распоясывал человеческую природу от всяких систем, принципов и правил жизни. Единственный принцип его заключался в том, чтобы не иметь никаких принципов и повиноваться только свободному влечению собственных страстей. Идеалом его был человек с необузданными страстями, рушившими всякие преграды и пренебрегающими какими бы то ни было условиями жизни. Романтизм любил героизм, но героизм не усидчивого труда, не того неуклонного преследования своей цели, которое так высоко ставит английскую расу, а героизм самозабвения, которому непременно нужно или разом достигнуть всего, или погибнуть. Романтизм прославлял любовь, но признавал ее только как необузданную горячку страсти, снимая с человека всякие нравственные обязанности и нисколько не думая о каких-либо разумных отношениях между мужчиной и женщиной вне порывов страсти. Одним словом, если мы возьмем романтизм во всей его сложности, то мы увидим ту самую теорию, в виде которой люди сороковых годов представляют себе то, что они называют современным нигилизмом и разными новыми учениями. Это доказывает только, что люди эти до такой степени свыклись с романтизмом своего времени, что никак представить себе не могут какого-либо более разумного протеста против отживших форм и условий жизни, как в виде того же романтизма их времен с растрепанными волосами, разнузданными страстями и бесцельным отрицанием. Они смотрят и не видят, слушают и не слышат, и, живя в 1869 году, живут все еще в каком-нибудь 39-м или 49-м.
В те годы действительно все, что было недовольно жизнью, искало спасения в романтизме. В то время не в редкость было встретить искателя приключений, с гордостью на челе и холодным разочарованием в сердце, отчаянного донжуана, бреттера, игрока, стремящегося по этому случаю на погибельный Кавказ и на пути туда не упускавшего случая пройтись насчет клубнички. В женщинах, по их положению, романтизм не мог доходить до таких крайностей; но и из них лучшие натуры по-своему страдали романтизмом: среди мертвого однообразного прозябания Райских, Марфенек и Беловодовых, под гнетом родовых предрассудков, такие женщины ударялись обыкновенно в сосредоточенную мечтательную жизнь, бежали общества людей и любили в уединении предаваться созерцанию красот природы. В то же время они постоянно мечтали о герое с титаническими силами, который извлек бы их из тины мелочей и дрязг и повлек бы куда-нибудь на край света, в волшебные сады Армиды. Такова была Вера в романе г. Гончарова.
Вера представляет радикальную противоположность с Марфенькой. В последней мы видим, при полном отсутствии всякой самостоятельности мысли, несколько положительных качеств вроде усидчивости в труде, жажды разливать вокруг себя добро – качеств, драгоценных с точки зрения какого хотите мировоззрения. В Вере ничего этого нет: она ведет в сущности такую же праздную, чисто растительную жизнь, как и Беловодова или Райский. Зато в ней преобладают свойства чисто отрицательные: отчуждение от окружающей жизни, стремление жить по-своему и бессознательная инстинктивная жажда чего-то нового.
Кому отдать пальму преимущества в этом случае, Марфеньке или Вере, – определить это трудно, так как мы имеем дело с бережковской почвой, на которой в конце концов все приводится к одному знаменателю. Мы заметили уже, что все положительные качества Марфеньки, как они ни хороши сами по себе, должны неминуемо заглохнуть на этой почве и не принести никакого плода. Сейчас мы увидим, что и отрицательные качества Веры приведутся к тому же результату.
Уже с самого детства в Вере начала проявляться натура, не укладывающаяся в тесные рамки бабушкиного миросозерцания.
«– Скажите мне, бабушка, что такое Вера? – вдруг спросил Райский, подсевши к Татьяне Марковне.
– Ты сам видишь: что тебе еще говорить? Что видишь, то и есть…
– Да я ничего не вижу.
– И никто не видит: свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего. И бабушка не смей спросить ни о чем: «нет да нет, ничего не знаю, да и не ведаю». На руках у меня родилась, век со мной, а я не знаю, что у нее на уме, что она любит, что нет. Если и больна, так не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства ни спросит, а только пуще молчит. Не ленива, а ничего не делает: ни сшить, ни по канве, ни музыки не любит, ни в гости не ездит – так, уродилась такая! Я не видала, чтобы она от души засмеялась или заплакала бы. Если и рассмеется, так прячет, улыбку, точно грех какой. А чуть что не по ней, расстроена чем-нибудь, сейчас в свою башню спрячется и переживет там и горе и радость – одна. Вот что!»
Под башнею бабушка разумеет старый запущенный дом, который Вера полюбила с детства, и когда выросла, то поселилась там в одиночестве, совершенно в романтическом духе.
В то же время было бы совершенно ошибочно думать, чтобы такое поведение было следствием какого-либо сознательного недовольства жизнью и окружающими людьми, чтобы она могла бы определенно сказать, чем она недовольна и чего она хочет. Миросозерцание Веры ничем в сущности не отличалось от миросозерцания бабушки и Марфеньки; что бы там ни проповедовал ей отец Василий, сколько ни выстаивала Вера возле часовни, она не могла еще додуматься даже и до того, что вся жизнь и ее и окружающих людей представляет вопиющее противоречие хоть бы с теми идеалами, представителем которых служил образ, перед которым она молилась. Но в ней был такой избыток сил, который никак не вмещался в узкие рамки бережковской жизни; он требовал большего простора, чем представляла эта жизнь, и тем сильнее было брожение этих сил, чем пустее и бессодержательней была жизнь Веры, жизнь обедов и ужинов, ужинов и обедов да праздных скитаний по аллеям бережковского сада.
При всех этих обстоятельствах, очевидно, стоило подвернуться случаю, чтобы избыток сил вырвался наружу и томная жительница заброшенного дома совершила подвиг в романтическом духе, идущий вразрез со всеми понятиями окружавшей ее среды. Стоило явиться обольстительному герою вроде Печорина, дерзкому, отважному, с глубокой ночью на душе, гордым челом и лицом, омраченным скукой разочарования, – и вот вам на сцене борьба долга с увлекающей страстью, ходьба по краям пропасти, бесконечные споры о том, что такое страсть и следует или не следует отдаваться ей беззаветно, и в заключение беседка на дне обрыва, звездная ночь, луна и т. д.
Вот вам ключ от всего романа, как он, по всей вероятности, задуман был первоначально. Мы можем судить наверное по всему ходу романа и по духу времени, в котором он задуман, что перед нами непременно должен был предстать романтический герой вроде Печорина, с жаждой приключений, опасностей и донжуанскими наклонностями. У нас есть и кое-какой фактический намек в самом романе на наше предположение. Гончаров так неискусно переделал свой тип на современный лад, что в новой костюмировке, в которую он одел своего героя, оставил небольшую прореху, и сквозь нее мы видим клочок шкуры совсем иного волка. Вспомним, что в заключение Гончаров посылает Марка Волохова в юнкера на Кавказ. – Как вам это нравится! В этом открываются перед вами два факта: во-первых, вы видите, как отлично понимает г. Гончаров дух нашего времени, заставляя своего юного героя искать забвения в гибельном Кавказе, а во-вторых, как преследует Гончарова седая старина, как тесно сжился он с нею и как ему трудно отделаться от тех представлений, которые он вынес из своей молодости.
Одного исхода на гибельный Кавказ совершенно достаточно, чтобы перед вами предстал во всей своей красоте тот тип, из которого Гончаров переделал своего Волохова, а вместе с ним и самый роман открылся бы перед нами в своей первобытной чистоте.
И вы видите, что роман задуман был не дурно. Он представлял бы одну из тех старых историй, которые зачастую совершались на бережковской почве, и в этой истории ненадежность и дрянность бережковской почвы представлялись бы перед вами во всей своей ужасающей ясности.
VIIIГончаров задумал такой сюжет, который требует самой тщательной выдержки: малейшая фальшь, малейший неверный штрих, и вся трагедия превращается в смешную, глупую и пошлую комедию.
Для того чтобы трагическая иллюзия была соблюдена, героиня должна быть до конца выдержана в виде женщины с натурою сильною, глубокою, вполне неудовлетворенною окружающей ее средой и неуклонно стремящейся вырваться из нее. В то же время герой должен быть представлен человеком с не менее сильным характером и недюжинным умом; возвышался бы над всем его окружавшим и действительно казался человеком, способным увлечь такую женщину. При этих условиях вы представьте себе только, сколько было бы поистине трагичного в судьбе женщины, которая все свои стремления, мечты, упования – всю свою жизнь положила в руки человека, в надежде, что он вырвет ее из среды сонного прозябания и что с ним рука в руку она пойдет по пути иной жизни, полной разумного счастья, – и вдруг что же; его герой оказывается пошлым ловеласом, а себя она видит жалкой игрушкой в его руках, которая годилась только до тех пор, пока ее не разбили, а потом взяли и выбросили. Во всей этой истории трагичен, таким образом, не самый факт падения, потери невинности, а ужаснее всего то, что здесь рушатся все стремления, надежды, иллюзии, женщина становится лицом к лицу с пошлой, грязной и ужасной действительностью – женщина униженная, оскорбленная, обращенная в ничтожный предмет минутной прихоти.
Но мы не можем судить, сумел ли бы Гончаров изобразить перед нами такого героя, в которого могла бы влюбиться Вера? О сопоставлении Веры с Марком Волоховым мы еще поговорим в своем месте. Что же касается до того, в каком виде представил он Веру до и после ее падения, здесь мы видим полную неспособность Гончарова выдерживать характер и развивать перед нами драматические сюжеты.
Уже до падения Веры с обрыва вы видите перед собою в типе Веры удивительную амальгаму, составленную из двух совершенно разнородных личностей.
С одной стороны, Гончаров старается представить нам в лице Веры, как мы сказали уже, титаническую натуру, не укладывающуюся в рамки рядового быта и рвущуюся из них:
«Да, это не простодушный ребенок, как Марфенька, и не «барышня», – говорит он в одном месте своего романа. – Ей тесно и неловко в этой устаревшей, искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образование и все воспитание девушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее (?), добиваясь правды. В ней много именно того, что Райский напрасно искал в Наташе, в Беловодовой: спирта, задатков самобытности, своеобразия ума, характера – всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина, и дать направление своей и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба. Она пока младенец, но с титанической силой: надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась».
Но в различных подробностях романа тот же Гончаров представил перед нами в лице Веры вовсе не какую-либо титаническую натуру, а именно «барышню», и самую дрянненькую, которая, пользуясь своими обольстительными взорами, играла, как кошка с мышкой, с людьми, ухаживавшими за нею. Читая роман, вы не раз возмущаетесь до глубины души ее отношением к Райскому, которого она с тактом записной кокетки метала с небес в преисподнюю и обратно. Не лучше были и отношения ее к Тушину, которого она держала в почтительном отдалении, при всем том очень ловко пользовалась им, как послушным рабом, по мере надобности, и не скрывала расчетец очень невысокого полета – что Тушина не мешает приберечь на случай кораблекрушения, как человека, на которого можно будет тогда положиться. У шаловливых барышень, окруженных поклонниками, всегда бывает спрятан про запас солидный мужчина не без состояния, которого они обыкновенно держат позади всех и за которого впоследствии выходят замуж в случае крайности.
Такова же Вера и в минуту падения. Это вовсе не титаническая женщина, увлекшаяся всепоглощающей страстью, в которой сосредоточились все ее надежды, мечты, вся ее вера в будущее, а опять-таки нервная, чувственная, слабая барышня, которая вовсе не хотела падать, но колебалась-колебалась – да и не утерпела, чтоб ее кошка не съела. После же окончательной сцены в «Обрыве» Гончаров превращает Веру буквально в Марфеньку. Горе Веры сосредоточивается, главным образом, не на том, что разрушились все ее иллюзии, что все ее существование возвращено вспять и сама она оскорблена и унижена, как женщина, как человек. Вера обращает все внимание на то, что вот она совершила ужасный грех, потеряла невинность – и как теперь ей глядеть на всех, что скажет бабушка, что подумает Райский, Тушин, как будут глядеть на нее все люди, что заговорят в городе… А затем, стоило бабушке утешить Веру признанием вроде того: что ты, душенька, не плачь, я и сама когда-то сделала то же самое, и Вера разнежилась, утерла глазки и утешилась.
Если хотите, то и с сильной натурой, как бы ни была она титанична, должна была после такой катастрофы произойти реакция. Но у сильных, страстных натур реакция выражается в таких же крайностях, как и увлечение. Вера, как сильная натура, должна была бы кончить непременно крайностью: скорее всего, согласно миросозерцанию ее, можно было ожидать, что она, подобно Лизе в «Дворянском гнезде» Тургенева, кинется в суровый, мрачный мистицизм, в котором будет стараться заглушить горе разрушенной надежды; или, подобно Татьяне Пушкина, могла впасть в мертвую апатию отчаяния, в которой ей решительно было бы все равно, что бы с ней ни делали. Наконец она могла бы впасть в необузданный чувственный разврат, как Ирина в «Дыме». Писатели, глубоко прочувствовавшие бережковскую сферу жизни, обыкновенно кончали одним из этих выходов: так и Пушкин кончил с Татьяной, разочаровавшеюся в Онегине; так и Тургенев покончил со многими героинями своих повестей. Но Гончаров изобрел для своей героини выход особенного сорта, крайне искусственный, фальшивый и совершенно немыслимый на бережковской почве. Подобно тому, как в предыдущем романе, заставивши Ольгу разочароваться в Обломове, Гончаров утешил ее, пославши ей Штольца, которого сам создал искусственно силою своей досужей фантазии, так же он поступил и с Верой. Тушин является перед нами экстрактом всевозможных добродетелей, наподобие тех Правдиных и Стародумов, которых изобретал некогда Фонвизин, или еще лучше вроде гоголевского Костанжогло, вившего из песка веревки и наживавшего таким образом миллионы. В Тушине вы находите все, что вам только угодно: и мускульную силу, и железную волю, и змеиную мудрость, и голубиную кротость, и наивную простоту, и энергическую деятельность, и умение жить, поживать, да и добро наживать – да такое добро, что и сам он катался как сыр в масле и мужички его благоденствовали, избы у них были все новые, крыши на избах деревянные, сами они были богатые, энергические, барину, господину своему, не только оброков не платили, но еще с него брали за труд свое жалованье – ну, и, конечно, благословляли свою участь и души в барине не чаяли; одним словом, в именье Тушина чуть ли не текли молочные реки в кисельных берегах.
Но как же это при всех условиях жизни бережковской сферы мог создаться такой алмаз? Как он сохранился, когда жизнь в самых основаниях своих вела к растлению? Гончарову самому приходил в голову этот вопрос при создании типа Тушина, но он отделался от него без затруднения:
«Стройно действующий механизм природных сил, – говорит он в одном месте, – мог бы расстроиться и от внешних притоков разных противных ветров, толчков, остановок и от дурной, избалованной воли. У него этого разлада не было. Внутренней силой он отражал внешние враждебные притоки, а свой огонь горел у него неугасимо, и он не уклоняется, не изменяет гармонии ума с сердцем и волей и совершает свой путь безупречно, все стоит на той же высоте умственного и нравственного развития, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба, следовательно стоит почти бессознательно».
Вот что значит свобода творческой фантазии: чуть приходится нам объяснить какую-нибудь, нами же придуманную несообразность – мы сейчас можем сослаться на какой-нибудь внутренний огонь – и дело в шляпе. Нам с Гончаровым ничего не стоит нарисовать человека, окруженного бурным пламенем, а внизу подписать: «Сей человек и в огне не горит, ибо из его могучей натуры непрестанно выступает внутренняя влага, делающая его неуязвимым в пещи огненной».
Но предположим, что Тушин возможен на бережковской почве: в семье ведь не без урода и каких только чудес не бывает в природе. Как же это Вера, если она была чистая, глубокая, титаническая натура, раньше-то не открыла этого брильянта в куче навоза? Мы можем допустить, чтобы сильная натура увлеклась даже не титаническим донжуаном, а первым встречным гусаром и убежала с ним, если бы вокруг нее ничего не было. Но возле Веры был герой, который мог удовлетворить самым пылким мечтаниям девушки. Какого же еще рожна было нужно Вере, выражаясь бабушкиным языком? И здесь опять-таки мы видим все неумение Гончарова выдерживать характеры и иллюзию романа. Заставь Гончаров Веру встретиться с Тушиным после падения ее с обрыва, и все было бы в порядке: тема романа вполне соответствовала духу беллетристической школы сороковых годов, на почве которой было написано множество романов и повестей с подобной темой, что вот, мол, сильная женская натура, не находя вокруг себя никакого выхода, наткнулась на подводную скалу, впала в разочарование, отчаяние, но встреча с новым героем такого рода, о котором она и прежде всегда мечтала, утешила ее и возродила к новой разумной жизни, в которой она нашла, наконец, исход из своего прежнего бесцельного прозябания. Правда, и в таком виде роман представлял бы в себе много ложного, потому что новый герой был бы все-таки герой, сочиненный автором, а не действительный, и новая жизнь, в которую Вера вступила бы, все-таки оставалась бы фиктивной жизнью, невозможной на той почве, на которой Гончаров ее представил; но была бы по крайней мере хоть какая-нибудь выдержка в романе.
Но Гончаров поступил иначе: взявши такой драматический сюжет, который требует непременно глубокого и свободного анализа, он посмотрел на этот сюжет с точки зрения узенькой морали; он не увидел в этом сюжете ничего, кроме греховного падения Веры, и из такого богатого сюжета, в котором могла бы развернуться старая жизнь перед нами во всей своей трагичности, он вздумал сделать нравоучительную повесть о том, как дурно поступают девушки, которые не слушаются старших и дают свободу своей воле и своим страстям. Сузивши, таким образом, богатый сюжет, Гончаров по необходимости должен был поставить Веру между двумя началами, злым и добрым, причем злое начало в виде обольстителя тянет Веру на дно обрыва, а доброе в виде Тушина – тянет вверх на путь спасения и благонравия. Мы знаем, что Гончаров не в первый раз поступает таким образом. Ведь и Ольга в «Обломове» точно так же рисуется перед нами между двумя противоположными началами: началом лености в виде Обломова и деятельности в виде Штольца. Гончаров до сих пор сохраняет архаическую манеру живописцев дорафаэлевского периода – располагать фигуры в картине симметрически по прямым линиям. Но так как противоположные нравственные начала олицетворяются в романе в виде различных любовников, между которыми Вера колеблется, не зная, кому отдать преимущество, то этим самым она обращается из титанической натуры в слабую, нерешительную нервную барышню, которая, как мы выше заметили, кокетничает и с одним, и с другим, и с третьим, а Тушина оценивает только тогда, когда дело приходится плохо.
IXВообще нужно заметить, что во всех решительных драматических моментах романа вы не оберетесь нелепостей самого первого сорта. У Гончарова замечается какая-то фатальная способность изображать трагический пафос своих героев в таком комическом виде, что вместо трагического чувства в вас возбуждается истерический хохот. Посмотрите вы, например, на этого Райского, который в ревнивом бешенстве, как сумасшедший, мечется по саду во время сцены в беседке, вопит в ярости: мщения, мщения!.. натыкаясь на Полину Карповну, вертит ее, как куклу, произнося несвязные речи, и бросает потом в траву с криком: «Прочь, гадина!» Посмотрите вы на этого учителя Козлова, который, после того как жена ему изменила и уехала от него, все смотрит на дорогу, ожидая ее возвращения, и каждого мужика, едущего в телеге, принимает за возвращающуюся супругу. А что сделал Гончаров с бабушкой Татьяной Марковной, уму непостижимо. Он заставил ее после падения Веры несколько дней пробродить по усадьбе в трагическом пафосе, напоминающем сцену лунатизма леди Макбет. К ужасу всех дворовых она ходила, ходила, ходила по саду, по полям, ломая руки и приговаривая: мой грех, мой грех!.. А за ней бегал Райский с кружкой молока, которую желал поднести ей, опасаясь, чтоб она не умерла с голоду.



