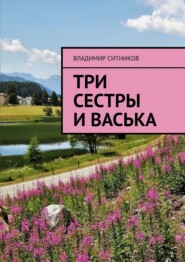скачать книгу бесплатно
– К наступлению они готовились. В атаку идти надо, а там дзот немецкий, с пулемётом. Косит солдат почём зря. А майор, командир ихний, кричит: вперёд, в атаку! Они бы рады, да из оружья-то одни винтовки. Майор первым поднялся. Закричал: «в ата…», а «ку» не успел договорить, в шею его ранило. Родя-то, дед твой, с другими солдатами майора на палатку брезентовую положили и к санитарам оттащили. Вернулись. Пулемёт немецкий по-прежнему подняться не даёт. Пушка мелкая бьёт по нему, миномёт мины пускает, а бетонному дзоту это как горох о стенку. И вдруг танк наш подъехал. Обрадовались солдаты. Облепили его, и Родя залез на броню. Танк этот раздавил пулемёт вместе с дзотом. Танкист люк открыл: прыгайте и дальше в атаку. А те солдатики, что слева и справа от башни сидели, мёртвые уже. И Родя-то весь в крови. Его вот сюда и сюда ранило, но поначалу вроде и не заметил боли. Ур-ра! Немцы руки в окопах подымают, сдаются. Родя подобрал немецкий автомат. В нём патронов много. Два рожка целых. Да винтовка своя. Ур-ра!
Выбили немцев и тогда боль-то почувствовал в ноге. Санитаров стал искать. Нашёл одного, а у того и бинта нету, чтоб раны перевязать. Рубаху свою нательную Родя содрал, исполосовал и забинтовали его кое-как.
– Что ты за санитар, – Родя ему говорит. – Мы ведь в атаку шли.
А тот огрызается:
– Знаешь, сколько я до тебя уже перевязал?!
Поковылял Родя в полевой госпиталь. Сначала вроде шёл, на винтовку опирался, а потом сил не стало, пополз. Кое-как доколдыбал до санитарной палатки. Операцию надо делать, а у них обезболивающего лекарства нету. Родя говорит врачихе:
– Режь, доктор, не плачь. Я выдержу.
Выдержал. Подлатали, да опять на передовую.
Горемыка-солдат твой дед Родион. И в Венгрии воевал, и в Польше освобождал города от фашистов. А когда до Берлина – немецкого главного города оставалось всего 80 вёрст, опять ранило его. Минных осколков впилось в него несчётно. Тут уж увезли в далёкий тыл и домой-то он уж после Победы вернулся через полгода.
Василиса слушала о дедушке Родионе и представлялся ей усатый солдат в погонах и бабушка Луша ещё молодая, а отца-то ещё не было.
Случались в Зачернушке и невесёлые истории.
Как-то под осень надумали сыновья отправить подружку бабушки Луши Акулину Арефьевну в город Киров в дом престарелых. Велели соглашаться. А то изба осела, в пазы дует. Ремонтировать такую рухлядь одна трата сил и денег. Да и никто не возьмётся. Новый дом не по средствам. А сами сыновья – чернильные души – в офисах сидят. Топор давно не видали. К себе в город брать мать на житьё – снохи против. Да и сама Акулина Арефьевна не согласна. Зачем обременять. Пока внуки маленькие были, она там нужна была, а теперь лишняя.
– Нет старухи, дак купил бы, есть старуха, так убил бы, – говорила сама Акулина Арефьевна.
Ехать в дом престарелых ей не хотелось. Сначала встала на дыбы. Останусь в деревне, палкой гоните, не поеду, а потом сникла. Сидела она в день отъезда на крыльце рядом с плетёной коробицей, куда уложила всё, что считала нужным взять с собой, и утирала углом платка глаза: «Милая деревня, милая улица, прощай!»
– Ты уж не казнись. Попривыкнешь. Народ там тоже вятский, – утешала её баба Луша, а Дарья Кочерыга, как всегда, нашла своё утешенье для Акулины Арефьевны.
– Чо ты слёзы до пят распустила, Арефьевна. Поди, кавалера там заведёшь. Есть там заводные старички с усами вроде Будённого или Чапаева.
Акулина Арефьевна замахала руками:
– Уймись, – и ещё сильнее заплакала. – Думала ли, что сраной метлой из своей избы почётную-то колхозницу выметать станут.
Приехавшие на машине двое сыновей деловито заколотили досками окна, навесили замок на двери. Один заглянул в плетёную материну коробицу.
– Зачем такая рухлядь? – принёс из машины чёрную сумку на молниях, вытряхнул из коробицы одежду, платки, свернул колобом, засунул в сумку. Коробицу выбросил в крапиву через прясло.
Акулина Арефьевна затряслась в плаче:
– На память хотела взять. Тятенька сам плёл.
– Позориться только, – оборвал её сын.
Старухи скорбно смотрели на эту сцену, но вмешиваться не посмели. Семейное дело.
А когда стали целоваться на прощанье, все бабки заревели в голос будто на похоронах. Васька смотрела на плачущих старух, и у неё тоже слёзы подступили к глазам и горло заклинило.
– Зачернушечка, милая сиротка моя, – завсхлипывала Арефьевна, неохотно забираясь в машину.
– Пишитё, бабы, – успела ещё сказать.
Но писала Акулине Арефьевне одна бабка Луша. Она была самая обязательная. Недаром Бригадиркой называли.
– Людей нельзя обижать. Людей надо любить, – говорила она.
Коробицу, плетёную из ивового прута, бабушка выволокла из зарослей крапивы, обтёрла и унесла в Акулинин дом. ключи-то сыновья ей оставили, как самому надёжному в Зачернушке человеку.
Заезжала как-то бабушка Луша к Акулине Арефьевне в интернат для престарелых. Погоревали на скамеечке.
– Все вроде по-доброму здеся, кормят внимательно. Всё мяконькое, протёртое дают. Для беззубых. Да ведь не дома, – сокрушалась Акулина Арефьевна. – Дома-то воля. Куды хошь, когда хошь иди, а здеся распорядок. Дисциплинка. Ложки загремели – синал завтракать.
– Дак эсталь вас. Без распорядка-то нельзя, – вроде оправдывала «дисциплинку» баба Луша, а Ваське сказала, что она бы эдак не смогла жить, когда расписано кому по какой половице ходить.
Хватало у бабушки Луши забот. Когда поубавилось коров в частном владении у жителей Коромысловщины да понаехали летом на отдых дачники из города, надумали Иван с Анфисой, что молоко из Зачернушки надо продавать. Если отцу некогда было заехать на тракторе, бабушка сама отправлялась в Коромысловщину.
Тоскливо и тревожно было Ваське, когда бабушка, уместив в две камышовые сумки четыре, а иногда и шесть четвертных бутылей молока, взваливала этот груз на плечо и отправлялась в Коромысловщину, чтобы оставить свой товар у сына для покупателей. Зимой увозила эти сумки в салазках-кузовках. Васькин тоскующий взгляд устремлён был вслед и хотелось ей, одинокой, заплакать в опустевшей избе. Помогала гармонь. Когда играешь, вроде бы и не одна. А надоест играть, сядет в окну и глядит на дорогу. Ждёт, когда появится на ней баба Луша.
Возвращалась бабушка с гостинцами, купленными в Коромысловском магазине. То яблочков принесёт, то пряников, а однажды положила перед Васькой целую гроздь винограда. Где растёт такая внуснота? Ваське хотелось самой вырастить виноград, а ещё арбуз, и она совала семечки в консервную банку, где росла герань. Виноград почему-то не всходил, а вот арбуз проклёвывался и выпускал пару махоньких листиков. А потом они хирели и вовсе увядали. Васька обижалась:
– Я ведь их поливала, а они…
– Тепла им мало у нас. Притосливые. Это нашу репу да редьку куда ни сунь – вырастет. А про арбуз много надо знать.
– Когда большая вырасту, так арбуз сама выращу, – обещала Васька.
Особенно надолго запомнилось Ваське одно апрельское утро, когда бабушка раным-рано стала её будить.
– Вставай, жданная, пойдём берёзовицу собирать, – сказала она.
Недовольная выбралась Васька из-под стёганого уютного одеяла. Спать охота. Зевая, вышла на крылечко. Надели куртки, обули сапоги. Бабка Луша поставила в сумки четыре трёхлитровые банки, а одну дала Василисе в руки.
– Бастенько держи, не урони.
– Куды поволоклись? – окликнула их Дуня Косая.
– Да по берёзовицу, – отозвалась баба Луша. – Попоить девку надо.
Тёплая туманная ночь согнала снежную белизну. До неузнаваемости изменила всё вокруг. Бирюзово полыхали озими на верхнем поле, где ещё вчера лежал снег. Покраснели кусты тальника на обочинах дороги. Утро мглистое. Солнце в дымке, никак не пробьётся сквозь туманное молоко. Поднялись по дороге, и в сини лесов открылись будто маячки башенки белой коромысловской церкви. Казалось всегда, что они рядом стоят одна возле другой, а тут отдалилась зимняя церковь от колокольни. Чудо какое-то случилось.
Свернули на луговину и двинулись по шумящему, булькающему, причёсывающему струями прошлогоднюю траву потоку. В иных местах чуть не зачерпывали голенищами сапог разбушевавшуюся снежницу. Бабушка подхватывала Ваську подмышки и переносила через вымоины на бережок.
– Знаешь чего это, Василилушка? – устремляя голубой свет своих глаз на широченное текучее разводье, спрашивала она.
– Вода, – откликалась она. – Весна.
– Лога пошли. Слышишь, бурлят. Вешнюю-то воду и царь не уймёт, – и остановилась. Шумела вода. И ощущалось в этих словах какое-то таинственное, радостное удивление от проснувшейся после зимы разгулявшейся воды.
Видимо, бабушке чудилась музыка в словах «лога пошли» и ликующем шуме неудержимых потоков, сверкающих в лучах пробившегося сквозь дымку солнца. Васька несколько раз повторила: «Лога пошли».
По снежным языкам свернули в сквозной березник, где трогательно тонкие гибкие деревца светились на фоне небесной синевы. Сквозь этот карандашник вышли на пригретую опушку. Здесь выскочил уже торопливый любопытный первоцвет – жёлтые монетки мать-и-мачехи. Васька залюбовалась ими. А потом привлёк её внимание сверкающий шарик-росинка, которая скатилась в пазуху листа. Шарик этот драгоценно сиял, заставляя любоваться собой.
Здесь берёзы были покряжистее и покрепче, чем те, гибкие… Оглаживая морщинистой в сиреневых жилках рукой шелковистый ствол облюбованного дерева, бабушка виновато проговорила:
– Ты уж прости нас, берёзушка, если мы больно тебе сделаем, берёзовицы твоей наберём. Ты крепонькая, выдержишь.
Васька с опасением взглянула на берёзу.
– Значит, ей больно будет? И она заплачет?
– Поплачет, поплачет, – согласилась бабушка, – да перестанет.
Она вырезала ножом треугольник на коре, вбила рукояткой железный жёлобок и приспособила первую трёхлитровую банку, привязав её к стволу берёзы. В банку закапал сок.
– Плачет, – жалостливо глядя на берёзу, проговорила Васька.
Пристроили остальные банки и присели на поваленное ветром оголённое дерево.
– Погодим вот тут. Гли-ко, сколь погода-то румяна, – перевязывая платок на голове, проговорила бабушка. – Есть, поди, захотела? Проголодалась?
Васька кивнула.
Бабка Луша достала узелок с хлебом, варёными яичками и бутылку с квасом, выложила соль в спичечном коробке. Быстро очистила яичко, подала Ваське.
– Ешь, жданная.
Всё, что надо, предусмотрительно запасла бабушка Луша. Сама ела, запивая квасом.
Василиса обратила внимание, что руки у бабушки были в узольях вен, с толстыми на сгибах пальцами, неровными ногтями. Они вызывали жалость, и Васька погладила своей ладошкой бабушкину руку.
Бабушка прижала её к себе. Приятно было сидеть на согретом солнышком дереве бок о бок с самым добрым человеком.
– Я тебя любить буду всю жизнь, – проговорила Васька.
Бабушка плотнее прижала её к себе. А утро ещё сильнее разыгралось. Над жнивьём, над залитым водополицей лугом носились и рассыпали восторженные трели полевые птицы – кроншнепы, бекасики-баранчики высоко в небе извлекали из оперенья необыкновенный восторженный звук, будто шмель бился о стекло. Суетились, чего-то выспрашивая, чибисы с султанчиками на головах.
– Чево-чево, ишь любопытные, а ничево, вот по берёзовицу пришли, – отозвалась им бабушка.
– Чево, чево, а ничево, – пропела Васька.
А неугомонные чибисы не унимались, продолжали выспрашивать:
– А чьи вы, а чьи вы, чьи вы?
– Да тутошние мы, зачернушкинские. Неужели не узнали? – весело отвечала им бабушка Луша.
– Тутошние мы, тутошние, – подхватывала Васька. – Меня Василиской зовут. – Чибисы опять переспрашивали их, переговаривались меж собой? «Чево да чьи вы?». Ох, непонятливые.
– А теперь послушай-ко, – насторожилась бабушка, указывая рукой в небо, и освободила ухо, загнув платок.
Уже к ставшему привычным шуму воды прибавился нежный, почти хрустальный поднебесный звук. Васька подняла голову. Высоко-высоко в безоблачной голубизне неба проплывал едва заметный клинышек. Одна за другой летели красивые птицы своим, себе понятным строем. Самая первая – опытная птица – вожак, видимо, знала дорогу и поэтому летела в голове угла, бодрила других своим курлыканьем.
Они проводили взглядом одну плёнку, появилась другая.
– Ой, как интересно, – сказала Васька. – Ни разу такое не видела.
– А ещё не хотела идти. Проспала бы и ничего не узнала, – сказала бабушка с назиданием. – Журавлики-то родине радуются, домой воротились. Устали, жданные. Далеко лететь пришлось, а теперь уж близко им, – и помолчав, добавила. – Любуйся, Василиска. Гли-ко, как в сказке живём, наглядеться не можно.
Когда банки наполнились берёзовицей, бабушка налила её в стакашек внучке.
– Отведай-ко. Силы добавляет.
Василиса выпила сладковатый бодрящий берёзовый сок. Вкусно. Да и раз силы добавляет, как не выпить ещё живительной влаги.
Всё было у бабушки загодя предусмотрено. Она выколотила из берёз железные желобки, завернула в тряпочку, замазала раны на стволах садовым варом.
– Ну, оставайтесь с богом, не обидьтесь, – попрощалась с берёзами, и они двинулись с полными банками в Зачернушку. Свою банку Василиса несла, крепко прижав к груди, а потом заметила бабка, что устала внучка, поместила банку в сетку-рядушку. Ваське хотелось всю дорогу повторять то, что бабушка говорила берёзам: спасибо, не обижайтесь на нас.
А ещё ей радостно было оттого, что выдалось такое ласковое пригожее утро, что столько она всего запомнила сегодня невиданного и впереди был ещё большой, казавшийся бесконечным и праздничным день.
Берёзовицу пила Васька старательно. Отцу с матерью и сёстрам отправили банку в гостинец.
Когда от жары облиняла сирень, был какой-то праздник. Зачернушкинские старушки, надев плюшевые жакетки и повязав на головы голубые платки, отправились в Коромысловщину по заветревшим тропкам. От платков синью отливали так много видевшие в жизни их глаза.
– Радоница сегодня, – сказала бабушка Луша. – Дак мы с тобой тоже на кладбище сходим. Деда твоего Родиона помянем. Рано помер.
– А почему рано помер?
– А ведь тебе говорила, израненный весь был. Еле до дому добрался с войны-то да и потом каждый год лечился, – ответила бабушка Луша. – Война солдат не жалеет.
Весной без охоты стала есть Вешка сено. Даже любимый посоленный для аппетита хлеб не так азартно подхватывала шершавым языком. Тоскливо мычала. Бабушка сказала, что чует Вешка самую первую, самую сладкую траву. Взяв старую детскую коляску, уходили бабка с внучкой подкосить для коровы этой самой аппетитной травы. Вешка, благодарно мычала, встречая их в хлеву с охапкой свежей кошенины.
Зато с какой весёлостью выходила корова Вешка из ограды в первый выпасной день. Мычала, подхватывала языком клок травы. Радовалась. Василиса на выгоне ходила меж коров, трудолюбиво убирающих траву, смотрела на них. О чём они думают, эти большие добрые животины? Вешка узнавала её, поднимала голову от травы. Васька гладила её, гордилась, что от всех она на отличку – бурой окраски. И бабушка гордилась Вешкой.
– Корова красна доит маслом, – говорила она.
Бабушка Луша умела скрасить любую неприятную работу. К примеру, не хотелось Ваське пропалывать проклюнувшуюся морковь или свёклу.
– Зачем теребить. Они и так вырастут, – капризничала она.
– Полоть, – говорила бабушка Луша, – руки колоть, а не полоть, дак и хлеба не молоть. Морковь-то мелкая будет, как мышиный хвостик.
И, вздохнув, Васька вновь склонялась над грядкой.
– У тя глазки вострые, дак потереби, жданная, я тебе оладушек испеку, – обещала бабушка.
Наработавшись, садилась Васька на приступок крыльца и говорила по-бабушкиному: