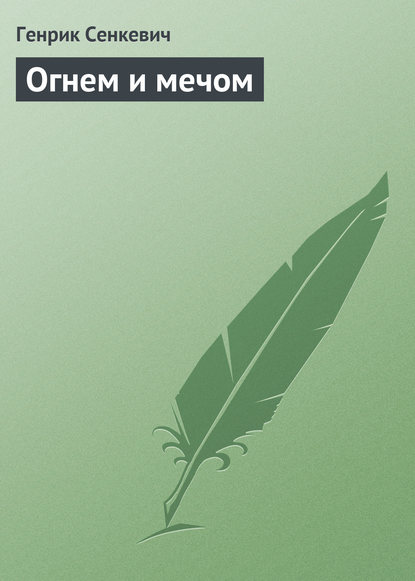 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Огнем и мечом
Его товарищи и верные друзья могли только догадываться об его горе, так как он не высказывал его. На вид он был совершенно спокоен, а к службе относился ревностнее обыкновенного и весь был поглощен предстоящей войной.
– Мы говорили здесь о твоем и нашем общем несчастье, – обратился к нему Заглоба. – Бог свидетель, ничем тебя утешить мы не можем. Наше сочувствие не имело бы никакой цены, если бы мы помогали тебе только проливать слезы. А потому мы решили пролить нашу кровь, чтобы вырвать бедняжку, если она жива еще, из неволи…
– Бог наградит вас за это! – сказал пан Скшетуский.
– Мы пойдем с тобой хоть в лагерь Хмельницкого, – сказал Володыевский, тревожно поглядывая на своего друга.
– Бог наградит вас! – повторил пан Ян.
– Мы знаем, – сказал Заглоба, – что ты поклялся отыскать ее живой или мертвой, и готовы идти за тобой хоть сейчас.
Скшетуский сел на скамью и, вперив глаза в землю, молчал. Заглобе даже досадно стало.
«Неужели он хочет ее забыть? – подумал он. – Если так, то пусть накажет его Господь! Нет, видно, ни благодарности, ни памяти на свете. Но найдутся такие, что пойдут спасать ее, хоть бы им пришлось последний дух испустить!»
В комнате воцарилось молчание, прерываемое только вздохами пана Лонгина. Маленький Володыевский подошел к Скшетускому и дотронулся до его плеча.
– Ты откуда? – спросил он.
– От князя.
– Ну что?
– Ночью выхожу на разведку.
– Далеко?
– До Ярмолинец, если дорога будет свободна. Володыевский взглянул на Заглобу – они поняли друг друга.
– Это по пути к Бару? – пробормотал Заглоба.
– И мы пойдем с тобой.
– Ты должен прежде спросить князя, может быть, у него есть для тебя другое поручение.
– Так пойдем вместе. Мне, кстати, надо спросить еще кой о чем.
– И мы с вами, – сказал Заглоба.
Они встали и вышли. Квартира князя была довольно далеко, в другом конце лагеря. Они застали в приемной множество офицеров разных полков; войска отовсюду стекались к Чолганскому Камню, и все предлагали князю свои услуги. Пану Володыевскому вместе с паном Подбипентой пришлось долго ждать, прежде чем им удалось предстать перед князем, но зато князь сразу позволил им ехать и послать нескольких драгун, которые должны были пристать, притворившись беглецами, к отряду Богуна и выведать все о княжне. Володыевскому он сказал:
– Я нарочно придумываю для Скшетуского разные поручения – вижу, как гложет его затаенное горе, и мне невыразимо жаль его. Говорил он вам что-нибудь о ней?
– Очень мало. В первую минуту он хотел было броситься разыскивать ее между казаками, но вспомнил, что теперь все полки стоят nemine excepto и что мы должны служить отчизне, которую надо спасать прежде всего. Потому он и не бьи у вашей светлости. Один только Бог знает, что творится в его душе.
– И тяжко испытует его! Берегите же его; я вижу, что вы его верный друг. Пан Володыевский низко поклонился и вышел, так как в эту минуту к
князю вошел киевский воевода с паном старостой стобницким, с Денгофом, сокальским старостой, и с несколькими другими сановниками.
– Ну что? – спросил Скшетуский.
– Еду с тобой; но сначала зайду в свой полк: мне надо послать кое-куда нескольких казаков.
– Пойдем вместе.
Они вышли вместе с Заглобой, Подбипентой и стариком Зацвилихов-ским, который тоже шел в свой полк.
Неподалеку от палаток драгунского полка Володыевского они встретили пана Лаша, который шел, или, вернее, качался из стороны в сторону, в компании нескольких шляхтичей. Они были совершенно пьяны. Увидев их, пан Заглоба вздохнул. Он подружился с коронным стражником еще под Кон-стантиновом, ибо в некотором отношении они были похожи друг на друга как две капли воды. Пан Лащ был храбрый рыцарь, гроза басурман и в то же время – известный гуляка и игрок, который все свое время, свободное от битв, молитв, наездов и драк, проводил в обществе таких людей, как Заглоба, пил до бесчувствия и любил слушать остроты. Это был ужасный забияка, который учинил столько бесчинств и столько раз преступал законы, что в каждом другом государстве он давно бы уже поплатился за это жизнью; на нем тяготел уже не один приговор, но его они ничуть не беспокоили и в мирное время, а теперь, в военное время, он и совсем забыл о них. К князю он присоединился еще под Росоловцами и оказал немалые услуги под Константиновой; но зато с тех пор, как войска пришли в Збараж для отдыха, он стал невыносим своими скандалами. В то же время никто не мог бы высчитать, сколько вина выпил у него пан Заглоба, и не мог бы описать все те небылицы, которые он наговорил Лащу к его великому удовольствию. Но весть о взятии Бара так опечалила Заглобу, что он стал мрачен и больше уже не посещал пана стражника. Лащ даже думал, что этот весельчак уехал куда-нибудь из лагеря, и вот вдруг увидел его перед собой. Он протянул ему обе руки и сказал:
– Здравствуйте, ваць-пане, отчего вы не заходите ко мне? Что поделываете?
– Сопровождаю пана Скшетуского, – мрачно ответил шляхтич.
Пан стражник не любил Скшетуского за его серьезность, называл его умником, но прекрасно знал о его несчастье, так как был на пиру в Збараже, когда пришла весть, что Бар взят. Но так как от природы он был человек необузданный, а к тому же и пьян теперь, то не сумел уважить чужое горе и, схватив Скшетуского за пуговицу жупана, спросил у него:
– А вы все еще плачете по панне? А красивая она была?
– Пустите меня, ваць-пане! – сказал Скшетуский.
– Постойте!
– Я иду по делам службы, мне некогда говорить с вами.
– Постойте! – повторил Лащ с упрямством пьяного. – Это вам по делам службы, а не мне, – мне тут никто не может приказывать!
Потом, понизив голос, он повторил вопрос:
– Ну что, красива была? Поручик сдвинул брови и сказал:
– Я бы вам советовал, ваць-пане, лучше не бередить раны.
– Чего не бередить? Не беспокойтесь, если она была красива, то, наверное, осталась в живых.
Лицо Скшетуского покрылось смертельной бледностью, но он сдержал себя и сказал:
– Мосци-пане, не доводите меня до того, чтобы я забыл, с кем говорю… Лащ вытаращил глаза:
– Что! Вы мне грозите? Вы – мне? Из-за какой-то девчонки!
– Идите своей дорогой! – крикнул, дрожа от злости, старый Зацвилиховский.
– Ах вы зайцы серые, прислужники! – кричал пан стражник. – Панове, за сабли! – И, обнажив свою, он бросился на Скшетуского, но в ту же минуту в руках пана Яна свистнуло оружие и вышибло из рук стражника саблю, которая взлетела на воздух как птица, а сам он со всего размаху упал на землю.
Скшетуский не добивал его. Он стоял бледный как полотно и точно оцепенелый. Поднялся шум. С одной стороны подскочили солдаты стражника, а с другой, как пчелы из улья, драгуны Володыевского. Раздались крики: «Бей их, бей!» Прибежали на шум и другие, не знавшие, в чем дело. Зазвенели сабли, и драка с минуты на минуту грозила перейти в побоище. Но, к счастью, товарищи Лаща, видя, что солдат Вишневецкого прибывает все больше и больше, протрезвились со страха и, подхватив пана стражника, обратились в бегство.
И наверное, если бы Лащ имел дело с менее дисциплинированным войском, его изрубили бы в куски, но старый Зацвилиховский, опомнившись, крикнул: «Стой!» И в ту же минуту сабли были вложены в ножны.
Слух об этой драке быстро разнесся по всему лагерю, и отголоски дошли до князя. Кушель, видевший все это, вбежал в комнату, где князь советовался с киевским воеводой, стобницким старостой и Денгофом, и крикнул:
– Ваша светлость, солдаты дерутся на саблях!
В ту же минуту в комнату влетел как бомба коронный стражник, бледный и почти потерявший сознание от бешенства.
– Ваша светлость, я требую справедливости! – кричал он. – В этом лагере точно у Хмельницкого не принимают во внимание ни происхождения, ни звания! Рубят саблями коронных сановников. Если вы, ваша светлость, не учините справедливости и не прикажете казнить обидчика, то я сам расправлюсь с ним!
Князь вскочил из-за стола.
– Что случилось? Кто вас обидел?
– Ваш офицер – Скшетуский.
На лице князя выразилось неподдельное изумление.
– Скшетуский?!
Вдруг двери распахнулись, и в комнату вошел Зацвилиховский.
– Ваша светлость, я был свидетелем! – сказал он.
– Я пришел сюда не отчет давать, а требовать наказания! – кричал Лащ. Князь повернулся к нему и посмотрел на него пристально.
– Тише! Тише! – сказал князь негромко, но с ударением. В его глазах и сдержанном голосе было что-то до того грозное, что стражник, прославившийся своей дерзостью, вдруг умолк, точно потерял дар слова, а окружающие побледнели.
– Говорите, пане! – обратился князь к Зацвилиховскому.
Зацвилиховский рассказал, как все было, как неблагородно и недостойно издевался Лащ над горем пана Скшетуского и как набросился на него с саблей, какую сдержанность, поразительную для его лет, выказал наместник, ограничившийся только тем, что выбил из рук пана стражника саблю. Старик закончил свою речь так:
– Ваша светлость знает, что я, прожив семьдесят лет, никогда не осквернял свои уста ложью и не оскверню и могу под присягой подтвердить свое показание.
Князь знал, что слово Зацвилиховского – то же золото, к тому же прекрасно знал Лаша; сразу он ничего не ответил, а только взял перо и начал писать; окончив, он обратился к стражнику и сказал:
– Справедливость будет вам воздана!
Стражник открыл было рот и хотел что-то сказать, но не нашел слов и только подбоченился, поклонился и вышел из комнаты.
– Желенский, – сказал князь, – отдай это письмо пану Скшетускому.
Пан Володыевский, не отходивший от Скшетуского, немного смутился, увидев входящего княжеского слугу; он был уверен, что надо будет сейчас же явиться к князю; между тем слуга, оставив письмо и не сказав ни слова, вышел. Скшетуский, прочитав письмо, передал его приятелю.
– Читай! – сказал он. Володыевский взглянул и вскрикнул:
– Назначение поручиком! – и, обняв Скшетуского за шею, поцеловал его в обе щеки.
Чин полного поручика гусарской хоругви был почти саном в войсковой службе. Ротмистром той хоругви, где служил Скшетуский, был сам князь, а номинальным поручиком – пан Суфчинский из Сенчи, человек уже старый и давно оставивший действительную службу.
Пан Ян давно уже исправлял de facto[60] обе эти должности, что, впрочем, часто случалось в хоругвях, где два первых чина служили только почетным титулом. Ротмистром королевской хоругви был сам король, примасовской – примас, а поручиками обеих числились высшие придворные сановники; в действительности обязанности их исполняли так называемые наместники, которых благодаря этому в обычном разговоре называли поручиками и полковниками. Таким фактическим поручиком, или полковником, был и пан Ян. Но между фактическим исполнением обязанностей, между званием, которое принято было употреблять в разговоре, и фактическим званием все же большая разница. Теперь благодаря этому назначению Скшетуский становился одним из первых офицеров князя – воеводы русского.
Приятели радостно поздравляли Скшетуского с этой новой честью, но лицо его ни на минуту не изменилось: оно осталось таким же суровым и каменным, как прежде; не было таких почестей на свете, которые могли бы теперь обрадовать его. Но он все же встал и пошел благодарить князя, а маленький Володы-евский ходил между тем по его квартире, потирая руки от удовольствия.
– Ну, ну, – говорил он, – поручик гусарской хоругви! Такой молодой, и поручик. Это вряд ли случалось с кем-нибудь раньше!
– Только бы Бог вернул ему счастье! – сказал Заглоба.
– Но вот что, вот что! Заметили вы, что он даже не дрогнул?
– Он с удовольствием отказался бы от этого, – сказал пан Лонгин.
– Мосци-панове! – вздохнул Заглоба. – Что ж тут странного? Вот эту самую руку, которой я отнял знамя, я отдал бы за нее.
– Да, да!
– Но пан Суфчинский, значит, умер, – заметил Володыевский.
– По всей вероятности, умер!
– А кто же теперь будет наместником? Хорунжий еще молод и только после битвы под Константиновом исполняет эту должность.
Этот вопрос так и остался неразрешенным. Ответ на него принес сам поручик Скшетуский.
– Мосци-пане, – сказал он Подбипенте, – князь назначает вас наместником!
– О боже, боже! – застонал Лонгин, складывая руки, как для молитвы.
– С тем же успехом князь мог бы назначить и его инфляндскую кобылу, – пробормотал Заглоба.
– Ну а рекогносцировка? – спросил пан Володыевский.
– Едем, не мешкая, – ответил Скшетуский.
– Много людей велел взять князь?
– Казацкую хоругвь и валахскую, всего пятьсот человек.
– О, ведь это целый отряд! Если так, то пора ехать.
– В путь! В путь! – повторял пан Заглоба. – Может быть, с Божьей помощью, мы что-нибудь узнаем.
Два часа спустя, когда заходило солнце, четверо друзей выезжали из Чолганского Камня к югу; почти в то же время покинул лагерь со своими людьми и пан коронный стражник. На отъезд его смотрело немало рыцарей из разных полков, не скупившихся на насмешки и ругательства. Офицеры толпились около пана Кушеля, который рассказывал им, отчего князь прогнал пана стражника и как все это случилось.
– Я сам отнес ему приказ князя, – говорил Кушель, – и, скажу я вам, это была рискованная миссия, ибо когда Лащ прочитал его, то взревел, как вол, которого прижгли раскаленным железом, и бросился на меня с кинжалом; странно даже, что он не ударил меня, должно быть, увидел в окно немцев Корыцкого и моих драгун, которые окружили его квартиру. Тогда он начал кричать: «Хорошо, хорошо! Если меня гонят, я уйду. Пойду к князю Доминику, он примет меня любезнее! Не буду, говорит, служить с этими оборванцами! Но отомщу им, кричит, не будь я Лаш! И от этого молокососа потребую удовлетворения». Я думал, что он задохнется от злости – то и дело колол кинжалом стол. И, знаете, я боюсь, как бы со Скшетуским чего-нибудь не случилось. Со стражником шутки плохи: он мстительный и гордый человек, который никому еще ничего не прощал; он храбр и как-никак сановник.
– Ну а что же может случиться со Скшетуским, раз сам князь ему покровительствует? – сказал один из офицеров. – Да и стражник, хоть он и на все готов, будет считаться с такой силой.
Между тем поручик, ничего не зная об угрозах стражника, удалялся со своим отрядом все дальше и дальше от лагеря, направляясь к Ожиговцам, в сторону Буга и Медведевки. Сентябрь позолотил уже листья деревьев, однако ночь была погожая и теплая, как в июле; таков уж был тот год, в котором почти совсем не было зимы, а весной все зацвело в такое время, в какое обычно всюду лежал еще глубокий снег. После сырого лета настали сухие и теплые осенние дни со светлыми, лунными ночами. Отряд ехал по хорошей дороге, без особых предосторожностей, так как был слишком близко к лагерю и ему не могла грозить никакая опасность. Ехали быстро. Наместник с несколькими всадниками впереди, за ними Володыевский, Заглоба и пан Лонгин.
– Взгляните, ваши милости, как луна освещает этот холм, – шептал Заглоба, – совсем как днем. Говорят, что такие ночи бывают только во время войны, чтобы души, покидая тела, не стукались лбами в потемках о деревья, как воробьи о крышу, и легче могли найти дорогу. Сегодня пятница, Спасов день, в который злые духи не выходят из земли и нечистая сила не имеет доступа к человеку. Я чувствую, что мне как-то легко и надежда меня не покидает.
– Хорошо, что мы уже выехали, придумаем что-нибудь для спасения княжны, а это главное, – сказал Володыевский.
– Хуже всего сидеть на месте и мучиться, – продолжал Заглоба, – сядешь на коня, начнешь трястись, отчаяние отойдет от сердца, пока его совсем не вытрясешь.
– Ну я не думаю, – шепнул Володыевский, – чтобы все можно было вытрясти; любовь, например, впивается в сердце, как клещ.
– Если она искренняя, то сколько ни борись, а ее не одолеешь. – И, сказав это, пан Подбипента вздохнул, точно кузнечный мех, а маленький Володыевский поднял глаза к небу, как бы отыскивая на нем звезду, светившую княжне Варваре.
Лошади во всей хоругви начали фыркать, а солдаты отвечали им: «На здоровье!»
Потом все утихло, и только в дальних рядах какой-то грустный голос затянул песню:
В путь ты дальний едешь, воин, Ждет тебя война!
Путь твой труден, день твой зноен, Ночь твоя без сна!
– Старые солдаты говорят, что когда лошади фыркают, то это хорошая примета, – сказал Володыевский.
– Мне точно кто-то подсказывает, что мы не напрасно едем, – ответил Заглоба.
– Дай бог, чтобы какая-нибудь надежда оживила сердце поручика, – вздохнул Подбипента.
Заглоба начал качать и вертеть головой, как человек, который не может отвязаться от назойливой мысли, и, наконец, сказал:
– У меня из головы не выходит одна мысль, и уж, видно, придется поделиться с вами, Панове. Не заметили ли вы, Панове, что с некоторого времени Скшетуский (не знаю, может быть, он только делает вид) меньше всех думает о спасении этой бедняжки.
– Какое! – ответил Володыевский. – Это у него такой характер: не хочет показывать другим своего горя, он всегда был таким.
– Так-то так, но вспомните, когда мы его обнадеживали, как небрежно он говорил нам: «спасибо», точно речь шла о каком-нибудь пустячном деле. Видит Бог, это было бы черной неблагодарностью с его стороны, ибо сколько эта бедняжка натосковалась и наплакалась по нему – трудно даже описать! Я видел это собственными глазами…
Володыевский покачал головой.
– Невозможно, чтобы он забыл ее, – сказал он, – хоть правда, что первый раз, когда этот черт увез ее из Розлог, он был в таком отчаянии, что мы боялись за его рассудок, а теперь он относится к этому более спокойно. Но если Бог дал ему силы и спокойствие, тем лучше. Как истинные друзья, мы должны этому только радоваться.
Сказав это, Володыевский пришпорил коня и подъехал к Скшетускому, а Заглоба некоторое время ехал молча рядом с паном Подбипентой.
– А не думаете ли вы, что, не будь на свете любви, меньше было бы зла на свете? – спросил Заглоба.
– Что Бог кому предназначил, того ему не миновать, – ответил литвин.
– Никогда вы не можете ответить кстати; это две разные вещи. Ну из-за чего же была разрушена Троя? Да разве и эта война не из-за рыжей косы? Захотелось Хмельницкому Чаплинской или Чаплинскому – Хмельницкой, а мы из-за их греховных страстей подставляем свои шеи…
– Это грешная любовь, но есть и другая, угодная Богу, от коей умножается слава Божия.
– Ну теперь вы ответили получше. А скоро ли сами вы начнете трудиться на этой ниве? Я слышал, что вас опоясали шарфом.
– Ах, братец, братец!
– Все три головы мешают, да?
– Ах! В том-то и дело!
– Ну так я вам скажу: размахнитесь хорошенько и сразу срубите три головы – Хмельницкому, хану и Богуну.
– Да, если бы только они захотели стать в ряд, – грустным голосом произнес Лонгин, подняв глаза к небу.
Володыевский между тем долго ехал рядом со Скшетуским, молча поглядывая из-под шлема на его безжизненное лицо, наконец, тронул своим стременем его стремя.
– Ян, – обратился он к нему, – нехорошо тебе так задумываться!
– Я не задумался, я молюсь, – ответил Скшетуский.
– Это святое и похвальное дело, но ведь ты не монах, чтобы довольствоваться только молитвой.
Пан Ян медленно повернул свое измученное лицо к Володыевскому и глухим, полным смертельной тоски голосом спросил:
– Скажи, Михал, что мне осталось, кроме монашеской рясы?
– Тебе осталось спасти ее! – ответил Володыевский.
– Я и буду заботиться об этом до последнего издыхания. Но если я и найду ее живой, то не будет ли это поздно? Сохрани меня Бог! Я могу думать обо всем, только не об этом… Я ничего больше не желаю: вырвать ее из поганых рук, а потом пусть она найдет себе такой же приют, какого буду искать и я. Видно, такова была Божья воля… Дай мне молиться, Михал, и не прикасайся к кровавой ране.
У Володыевского что-то сдавило сердце; он хотел было утешить Скшетуского, подать ему надежду, но не нашел слов, и они продолжали ехать в глубоком молчании. Губы Скшетуского быстро шептали слова молитвы, которою он, видно, хотел отогнать от себя страшные мысли, и когда Володыевский при лунном свете взглянул в его лицо, оно показалось ему суровым лицом монаха, изнуренного постом и молитвой.
V
Скшетуский подвигался со своим отрядом только ночью, а днем отдыхал в лесах и оврагах, расставляя для безопасности стражу. Подходя к какой-нибудь деревне, он окружал ее так, что из нее никто не мог выйти, забирал припасы и корм для лошадей и прежде всего собирал сведения о неприятеле, а потом уходил, не сделав никому зла; уходя из деревни, он внезапно менял направление, чтобы неприятель не мог узнать, куда именно направился отряд. Целью этого похода было узнать, продолжает ли Кривонос со своими сорока тысячами осаждать Каменец или оставив бесплодную осаду, ушел на помощь Хмельницкому, чтобы вместе с ним принять участие в решительной битве. Затем надо было собрать сведения о том, что делают добруджские татары: перешли ли они Днестр и соединились с Кривоносом или стоят еще по ту сторону реки? Это были важные для польских войск сведения, и главнокомандующие сами должны были бы постараться собрать их, но им, как людям неопытным, это не пришло в голову, и князь-воевода принял эту тяжелую заботу на себя. Если бы оказалось, что Кривонос бросил осаду Каменца и вместе с белгородскими и добруджскими татарами ушел к Хмельницкому, – нужно было немедля ударить на него, пока он еще не соединился с ними. А между тем главнокомандующий, князь Доминик Заславский-Острожский, не торопился, и его ждали в лагере на второй или на третий день после отъезда Скшетуского. Он, видно, по обыкновению пировал по пути; между тем уходило самое удобное время, чтобы усмирить Хмельницкого, и князь Еремия приходил в отчаяние при мысли, что если война будет так продолжаться и дальше, то с Хмельницким смогут соединиться не только Кривонос и заднестровские татары, но и сам хан со всеми перекопскими, ногайсками и азовскими татарами. В лагере были получены известия, что хан уже перешел Днепр и с двухтысячной конницей идет без остановок к западу, а князя Доминика все нет как нет.
Становилось очевидным, что войска, стоящие под Чолганским Камнем, должны будут столкнуться с войском, которое численностью своей далеко превзойдет их, и что в случае поражения главных военачальников ничто уже не помешает врагу вторгнуться в самое сердце Речи Посполитой – в Краков и Варшаву.
Кривонос был опасен особенно потому, что в случае вступления польских войск в глубь Украины он мог, направляясь к северу, из-под Каменца на Константинов, расстроить планы поляков и поставить их между двух огней. Поэтому Скшетуский решил не только разузнать все о Кривоносе, но по возможности и задержать его. Сознавая всю важность своего поручения, от исполнения которого зависела отчасти судьба всего войска, Скшетуский не щадил ни своей жизни, ни жизни своих солдат; было бы, конечно, безумием, если бы молодой рыцарь вздумал с пятьюстами своих всадников вступить в бой с сорокатысячным войском Кривоноса, к которому присоединились еще белгородские и добруджские татары, – Скшетуский был слишком опытным воином, чтобы решиться на такой безумный шаг, и знал, что в битве отряд будет уничтожен и по его трупу и по трупам его товарищей пройдет целое море казаков. Он решил поэтому испробовать другие средства. Он распустил слух между своими солдатами, что они составляют передовой отряд грозного князя; тот же слух он распространял по всем хуторам, деревням и местечкам, через которые ему приходилось проезжать. Весть эта с быстротой молнии облетела Збруч, Смотрич, Студеницу, Ушки, Калусики, перешла через Днестр и полетела дальше, точно на крыльях ветра, от самого Каменца до Ягорлыка. Повторяли ее и турецкие паши в Хотине, и запорожцы в Ямполе, и татары в Рашкове. Снова раздался знакомый крик: «Ерема идет!», от которого замирали сердца взбунтовавшегося народа, трепетавшего от ужаса и ожидавшего скорой смерти.
Никто не сомневался в достоверности этого известия. Коронные войска ударят на Хмельницкого, а Ерема на Кривоноса – это было в порядке вещей. Даже Кривонос верил этому, и у него опустились руки. Что ему было делать? Идти на князя? Ведь под Константиновом дух черни был совсем иной и сил больше, а все же он был разбит, уничтожен и едва спас свою жизнь. Кривонос был уверен, что его казаки будут отчаянно защищаться против любого войска Речи Посполитой, против каждого другого вождя, но при приближении Еремии разлетятся, как стадо лебедей перед орлом, как степной ковыль от ветра. Ждать князя под Каменцем было бы еще хуже. Кривонос решил пойти на восток, к Брацлаву, обойти этого злого духа, князя, и соединиться с Хмельницким; правда, он знал твердо, что, делая такой крюк, он вовремя не поспеет, но по крайней мере вовремя узнает об исходе дела и сможет подумать тогда о собственном спасении.



