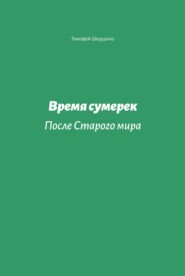 Полная версия
Полная версияВремя сумерек. После Старого мира
Замечу на всякий случай: говоря об прежней России, важно не попасть в ловушку «исторического» (то есть библейского) мышления, для которого последующее событие всегда с неизбежностью вытекает из предыдущего (читай: является карой или наградой за предыдущее). Боги не так последовательны. Многие вещи просто происходят одновременно, иногда – последовательно, не имея внутренней связи. Крушение российского корабля не следовало с неизбежностью из предыдущих событий; они только делали его возможным.
Итак, интеллигенция самовоспроизводится по вине испорченного аппарата просвещения. Она гордится собой и хочет сочетать несоединимое: просвещенность (очень неполную) с бесформенностью, старым русским пороком. В бесформенности видит она свободу. В то время как действительная свобода – не в распущенности и беспорядке, а в самоуправлении. Притом же, по некоторой исторической иронии, она мечтает о «демократии» – которая вся, от начала и до конца, стоит на самоуправлении и ответственности…
Но вернемся к разливу просвещения в последние 50 лет Старого мира. Несмотря на полуобразованность, на описанных Чеховым слабовольных Ива́новых и «умных и честных» Львовых (либеральному доктору Львову, кстати, чеховская героиня говорит: «Какое бы насиліе, какую жестокую подлость вы ни сдѣлали, вамъ все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человѣкъ!» Характеристика вечная, неистребимая!) – росла и подлинная образованность. Уверения Достоевского, будто вся реформа Петра – видимость и никакого следа на русском человеке не оставила, опровергаются историей.
Белое движение, а затем эмиграция – свидетельства силы созданного Петром типа русского европейца. Да, в России произошел надрыв просвещения, сбой образовательной машины. Чем дальше, тем больше расходились знания и «образование» (а в советские годы разошлись окончательно). Человек просвещенный – чем дальше, тем меньше умел распорядиться собой. А знания без умения ими распорядиться, без дисциплины, воли, целей (не «всемирных», а личных) – вредны, если не прямо опасны.
Но это ничего не говорило об обреченности петрова дела. Это говорило только о том, что большой корабль слишком поздно и круто переменил курс и не справился с волнами. Время, которое некоторые называют «золотым веком Империи» – до 1861-го – было и время, потерянное для образования. Не знали, стоит ли обременять крестьянина культурой, которая заставит его почувствовать тяжесть своего положения (культура всегда бремя, кстати, и не только для крестьянина) – и потому не обременяли.
ІІІ. О воспитании
Прежде всякого образования идет воспитание. Как я сказал выше: личность понимает только отношение к себе других личностей; никакие слова не имеют на нее действий. Итак, надо сказать: нация создается дома. Если не прямо «в детской», то из домашней, частной жизни; из игр на Пречистенском бульваре под невнимательным, но все же присмотром няни; из семейного тепла; потом в школе – но это при условии хорошо поставленного образования, забота которого – личность, а не маршировка.
Частную жизнь революция на десятки лет загнала в невыносимые условия, лишила тепла, а новая школа, как мы помним, выращивала трудолюбивого и жизнерадостного простака, в соответствии с известным высказыванием Крупской.
Осознание своей страны, культуры, «русскости» – это всё идет из дома, и если нет там, то не будет нигде. Только «новый порядок» на своем упадке предлагал «усилить патриотическое воспитание в школах при помощи герба и флага», т. е. получить невозможное: в циничных, холодных душах зародить почтение к чуждому флагу.
В действительности государство создается преемственностью частной жизни. Частное, домашнее – самая могущественная сила воспитания. Потому так важно было все частное заменить «общественным» – чтобы остановить передачу привычек ума и чувства, из которых складывается благоустроенная жизнь. Но в действительности все общее побеждается частным; положительные ценности нельзя навязать при помощи пропаганды, т. е. простой дрессировки. Отрицательные – вполне можно: отбить привычку к труду, приучить к бедному и простому вместо богатого и сложного, возбудить вражду к непохожему и непонятному.
IV. Нация и «новый порядок»
Можно возразить, что нацию я пытаюсь представить как единство культурных людей – а «не всем же быть культурными». Возражать и не стану. Нация есть единство культуры, а не водки и сквернословия, и люди, не обладающие никакими положительными, воспроизводящимися отличиями – ни к какой нации не принадлежат, они просто жители некоторой местности.
Более весомое возражение таково: хорошо, но и в Старом мире значительное большинство нации принадлежало к тому самом «народу», который просто «существует» изо дня в день. Более того – при конце Старого мира этот «народ» показал себя не лучшим образом, и только «новый порядок» ввел всенародное брожение, пусть и через десятки лет (т. к. еще 30-е гг. были временами широкораспространенного бесчинства, о чем не принято вспоминать), в какие-то рамки.
Не отрицаю. «Новый порядок» достоин осуждения не потому, что установил хоть какой-то порядок, а потому, что добивался порядка путем уничтожения личности вместо ее воспитания. О «воспитании» заговорили только после кончины тирана, когда личность уже была приведена к бессилию – и как бы не навсегда.
Равнение на уровень посредственности – ключ к новейшему «воспитанию». «Что же тут плохого, – говорят и теперь, – равенство прекрасно, оно убивает зависть!» Равенство убивает и возможность развития, и желание быть лучше. Развитие народов и личностей возможно только пока они неравны: пока есть чему удивляться, чему завидовать и что заимствовать.
Разлитие просвещения в обществе всегда идет сверху вниз, т. е. возможно только до тех пор, пока этот «верх» существует. Идет оно двумя путями: благодаря попечению верхов (во всяком случае, у нас в России) и благодаря переимчивости низов, которые хотят и в малом, и в большом подражать богатым и сильным. Добро вызывает не меньшее, а то и больше желание подражать, чем зло; во всяком случае у взрослых; дети более уязвимы перед обаянием злого.
Когда просвещенный класс в значительной своей части отказался служить новой власти, та создала новую интеллигенцию на другом этническом корне – еще более беспочвенную, нежели прежняя, но до поры верную. Верность ее, однако, была верностью идее, а не стране, и потому недолговечна. Эти люди нужны были большевикам как «европейцы ускоренного производства»; единственными европейцами и творцами культуры в России они видят себя до сих пор. К сожалению, это культурный класс без религии, Родины и аристократизма (т. е. выправки и традиции), а потому и без понятия внутреннего труда.
«Новый порядок» обещал создать и новую нацию. Мы помним, как это называлось: «новая историческая общность». Этого обещания он не исполнил. Нация не может «слинять в три дня», как грубо и несправедливо сказал Розанов о Русском государстве в 1917-м. Именно это, однако, и случилось с «новой исторической общностью» в 1991-м. Все «советское» на глазах выцвело. Культурное поле мгновенно засеялось сорняками, причем сорняками, об отсутствии которых общество давно вздыхало. Если в Белой эмиграции русско-романовская нация культурно плодоносила еще почти полвека после исчезновения государства, то в «освобожденной» России всякое плодоношение хвалимой «новой культуры» пресеклось мгновенно, уступив место разным формам литературного и прочего разврата. Как только из «советского» выпали пропаганда и та часть литературной поденщины, что писалась по соображениям цензурного удобства, заработка ради – оно уничтожилось почти без остатка. Да, обвал книгоиздания добил прежнюю литературу, но он не был случаен. Публика хотела определенного рода кушаний – и получила их. Литература желтая, полупорнографическая наилучшим образом удовлетворяла вкусы большинства, воспитанного – не будем забывать – «новым порядком».
Для образованных чтение – труд; для необразованных – развлечение. Доля развлекательных сочинений в общем круге издаваемых книг много говорит о том, для кого работают книгоиздательства. После конца социализма развлекательная литература победила – потому что образованного читателя не было или почти не было. «Самый читающий народ в мире» хотел от книги прежде всего развлечений. Технически просвещенному классу книга нужна только в час отдыха.
Потому «новый порядок» и не национален в романовском смысле, что вопроса о личном достоинстве и развитии даже не ставил. Если царь Петр сужал идеал нового русского человека до «добраго офицера» (т. е. достойного, пригодного для службы), то это было сужение временное и служебное. В недолгом времени кроме «добрыхъ офицеровъ» появились в России и мыслители, и поэты. Однажды начатое всерьез просвещение приводит не только к техническим успехам, которыми – неоспоримо – ограничились просветительные усилия революционеров: бомбы и самолеты при почти вековом молчании народа, прежде охотно и плодотворно выражавшего себя в слове. (Маяковские и иные слуги не в счет; тем более что как Маяковский, так и М. Булгаков, скажем, образованы как личности еще Старым миром.)
Ссылку на то, что революции будто бы не хватило времени для создания нации, той самой обещанной «новой исторической общности» – приходится отвести. Нация нового образца – российская, имперская, романовская, как ни называй, – сложилась у нас в недолгий срок от Петра I до Екатерины II. Сложилось, во всяком случае, новое самоощущение – широкое, европейское, победное. Выражением «Россійская Европія», употребленным в одной книжке конца XVIII века, это ощущение прекрасно определяется. Это национальное самоощущение нас не покидало до Крыма и Галлиполи – и дальше, пока граждане «русской Европии» были живы.
V. Настоящее и будущее
Итак, у нас в России есть пока что только одна нация, присоединение к которой стоит усилий: нация русско-романовская, имперская, от Алексея Михайловича до Николая Александровича сложившаяся – и потом еще живая, вне национальных границ, на протяжении почти полувека. «Новая историческая общность», созданием которой хвалился «новый порядок», и часом этот порядок не пережила.
Сейчас положение наше еще хуже. «Российское» есть обесцвеченное, потерявшее вкус и запах «советское». Никакими положительными отличиями оно не обладает, несмотря на широко объявленные «скрепы»; оно не наличность, но отсутствие качества. «Качества» улетучились после распада «нового порядка». Бескачественность «российского» преодолевается пока что через прививку «советского».
О европейского стиля выправке, которая придавала русскому человеку твердость и внешнюю форму в дополнение к достоинствам, присущим ему от природы – и речи не идет. Принять нынешний служебный, временный, за отсутствием лучшего придуманный идеал затруднительно, т. к. и достижения он обещает чисто служебные, а разрыв с национальной Россией (в указанном выше смысле) только усиливает.
А. Салтыков – несколько телеграфно – говорит: основа нации есть победа. Если расшифровать: основа нации в избытке сил, приводящем к политическим и иным победам. Этого нельзя сказать о нашей нынешней государственности. У нас нет «избытка»; хуже того – мы живем крошками с иностранных столов, и ничего «своего» предложить никому не можем. В лучшем случае, в качестве «своего» подается старое, лежалое, оставшееся от «нового порядка».
Единство бытовых обыкновений – нации еще не создает. Не создается оно и «идеологией», вопреки нынешней уверенности в том, что восстановление парадной, т. е. противоречащей его же образу действий, морали «нового порядка» восстановит пресловутую «новую историческую общность». Парадная мораль тем и отличается, что ее надевают по выходным, а в прочие дни хранят в шкафу. В «человек человеку друг, товарищ и брат» при «новом порядке» верили только самые наивные.
Основой развития в Старом мире были не «лозунги», а многообразие и неравенство и свобода влияния и заимствования. Слово «многообразие», однако, значит здесь нечто иное, чем имеет в виду социализм наших дней. Левое мировоззрение требует принудительного многообразия, понятого в единственно-верном, т. е. предписанном смысле. По сути, это требование единообразия, только слегка прикрытое. «Пусть цветут все цветы, – как говорил один тиран, – кроме ядовитых». Так и здесь. Кроме того, оно требует равенства, которое по определению ни с каким многообразием не уживается.
Левое, интеллигентское – нас к высшему развитию не приблизит. Как сказано выше, интеллигенция как болезнь роста. Чеховские пьесы полны людьми, которые от своей среды ушли, а к высшему состоянию не пришли: образованность их позолотила снаружи, не облагородив внутри. Тех же людей мы видим сегодня. Снова «небо в алмазах», снова «ум и честность», и снова чуждость национальной почве, как она создана предыдущей эпохой. Если наша интеллигенция не любит революцию, то не от осознанного отвращения к ее целям и образу действий.
Просветительный идеал себя исчерпал. Если так можно сказать, всесжигающий вал «просвещения» докатился до своих пределов. Нет больше ни воспитания, ни образования – только сообщение будущим техникам пресловутых «фактов». Умение видеть смысл, которое давалось когда-то образованием, похоронено под грудами «фактов». Личная выправка, культурные интересы не нужны поколениям техников; где отцы еще питались фантастикой и технологическими мечтаниями, детям хватает и водки, приправленной гнилословием. (О достоинстве и силе бр. Стругацких как учителей жизни я говорить не буду.) Что-то надо с этим делать, и никакими «скрепами» дела не поправишь.
XXVIII. Надежда, чувство вины, искание чуда
Мы не раз уже говорили о христианстве и его отзвуках в расхристианивающемся мире. Поговорим о нем снова. Спросим себя: без чего оно немыслимо – говоря о чувствах, переживаниях, словом, психологически?
Я бы сказал, что христианство нельзя представить себе без трех вещей: без надежды, чувства вины, искания чуда.
1. Надежда
Если посмотреть на христианство со стороны, глазами «язычника», можно решить, что оно поклоняется, не в малой степени, гипостазированной Надежде-Терпению. Ведь как Афродита делится, согласно Платону, на Афродиту-Урани́ю и Афродиту-Пандемо́с, так и в надежде скрыты две возможности: Надежда-Терпение и Надежда-Победа. Одна смотрит в настоящее, другая в будущее. Терпение само по себе не подразумевает победы; мысль о перемене к лучшему оно откладывает на вечное «завтра».
Старая религия тоже знала Надежду – греки как поэтический образ, римляне, сообразно своему характеру, как Надежду на Государство. Но это совсем другое. Неразрывная Надежда-Терпение – надежда, оторванная от исполнения, сроки которого настанут не здесь, не сейчас. В религии грека и римлянина было место Победе. Вообразить же у алтаря Победы христианина – невозможно. Здесь граница между добросовестно-христианским и внехристианским мышлением. 28
Надежда, оторванная от Победы, означает, что ее упования всегда «там», не «здесь и сейчас». Для здесь и сейчас нет ни одобрения, ни хотя бы любопытства. Чтобы строить на земле, христианскому мировоззрению нужна римская прививка, Западу данная католичеством, а России – Романовыми. Об этом мы уже говорили выше.
С другой стороны, для творчества, особенно поэтического творчества – эта отчужденность от мира полезна. Чтобы творить, нужно в достаточной степени «выломиться» из жизни. Христианство с его «не здесь и не сейчас» как нельзя лучше способствует поэзии.
Свобода есть именно невовлеченность; гений – холодок отчуждения от действительности. Между творящей душой и миром всегда зазор: «лень», осенний болдинский день, неделание и уединение. Творец невовлечен в минуту творения. И обратно: всякий пляшущий с плясунами, пьющий с пьющими, отпускающий прибаутки «творец» слишком здесь, слишком сейчас, чтобы ждать от него чего-то настоящего. Зато последних и любит непросвещенный слушатель и читатель…
При этом созданный христианством склад души, т. е. его отпечаток на душевной жизни, – не то же самое, что внутреннее содержание библейской религии. Из ее внутреннего содержания не следует ни культуры, ни творчества, – а скорее нечто, напоминающее самых твердых форм ислам. А вот из опыта тишины, уединения, внимания в внутренней жизни личности, даваемого христианской жизнью, творчество и культура не то, чтобы вытекают – но они им питаются, помимо сухой, питательной, еще эллинами указанной беседы ума с самим собой. 29
2. Вина и стыд
Оборотная сторона надежды – чувство вины. На этой струне христианство не устает играть. Оно обращается в человеке к ребенку, огорчившему строгого, но любимого родителя. Отсюда его щемящая интимность. Мелодия христианства – тонкая, берущая за душу мелодия вины. А поскольку виновны все, власть этой мелодии безгранична.
Однако нельзя сказать, что иго морального мировоззрения всегда тяжело. Покаянная поэзия, со всеми ее чудовищными преувеличениями, близка огорченной душе. Христианство подстерегает человека в минуту надлома и тут оказывается близким, домашним, выражающим именно его чувства. Другое дело, что жить в состоянии постоянного надлома, рыдания, сокрушения – никто не может. Осушив слезы, человек закрывает покаянный канон. Власть христианства есть, в своем роде, власть лирической поэзии – пока оно не предъявляет права на всего человека в каждый день его жизни. Тогда тирания морального мировоззрения становится нестерпимой: нельзя рыдать по расписанию и раскаиваться произвольно. Розанов говорил, что «блаженны плачущие» надо утаивать от детей и подростков и сообщать людям по достижении первой зрелости: тогда слова эти поразят. Но жизнь и зрелого человека не состоит из одних только сокрушений.
Говоря о вине, надо вспомнить и об огромной области «постыдного», в которую попадает важнейшая часть человеческой жизни. Действующие лица Ветхого Завета то и дело «познают» и «зачинают»; Давид влюбляется в Ионафана и всем об этом рассказывает… Потому один из героев Лескова и говорит о Библии, имея в виду Ветхий Завет: «Отъ нея страсть мечется». В Новом Завете все меняется. Взгляд на женщину – грех. Женитьба тоже грех; но не жениться еще хуже, т. к. неженатый будет «разжигаться». Счастливы скопцы, счастливы им подражающие, а если не можешь быть, как они – женись, чтобы угасить огонь пола. По меньшей мере своеобразное благословение брака.
Само понятие «клубнички», т. е. чего-то сладкого, но запретного, создано этическим мировоззрением; восстание этой «клубнички» мы и наблюдаем. «Въ содомѣ ли красота? – восклицает Достоевский. – Вѣрь, что въ содомѣ-то она и сидитъ для огромнаго большинства людей!» Этический взгляд на мир загоняет жизнь пола в Содом, а потом борется с подпольным влиянием этого Содома.
«Восстание пола» в наши дни – прямая расплата по давним счетам. К сожалению, это восстание не достигает цели, т. к. речь идет не о перемене мировоззрения, но о судорогах, вызванных желанием поступить назло и наперекор – словом, о подростковом бунте, которым всегда сопровождается выход из-под опеки христианства. На этих бунтующих подростках вины не больше, чем на тех, кто хотел их оставить вечными детьми. Станут ли вчера христианские народы взрослыми, потребуют ли иного взгляда на мир, более подходящего взрослым людям? Никто не знает.
По мере ослабления христианства, на место его вставало другое этическое, т. е. основанное на чувстве вины, мировоззрение – социализм. Мы не раз уже об этом говорили. Социализм есть настоящая религия христианского толка. Его смысл в насилии над человеческой личностью ради этических целей. Пусть не обманывает установившаяся в XX веке связь социализма с марксизмом; это связь местная и временная. Марксизму ненавистна была личность, ее особность и предприимчивость; пафос этического мировоззрения может быть направлен и на другое. «Пророкам» (назовем этим словом всех поклонников этического мировоззрения) ненавистна всякая сила. Сила ведет к преступлению, говорят пророки, нужно создать общество слабых. Общество слабых, к сожалению, совершенно бессильно против любых злоупотреблений, против любой наглости, от кого бы она ни исходила – от новых тиранов или от африканских переселенцев. Сила не просто культурно плодотворна, она еще и сторожевая башня, охрана личности и свободы…
С левой идеей тесно связано, по сути дела – переплетается еще одно мировоззрение, которое можно назвать «историзмом». После того, как Гегель позволил Истории занять место христианского Бога, христианскому чувству вины нашлись новые формы. В исходах прошедших и происходящих событий историзм видит «суды Истории» и верит «в справедливость ее приговоров» (Ф. Зелинский).
«Историческое» мышление видит во всяком событии кару или награду, поэтому для него нет полутонов. Для историзма всё «закономерно» и «неизбежно». Всякая случайность, всякий срыв во время сложного, рискованного развития – «предрешены». Так создаются мифы о «неизбежности революции» и прочем в том же роде. Любое расположение событий провозглашается «неизбежно вытекающим» из предыдущего. Так звуки только что законченной симфонии могли бы верить в предопределенность своей встречи – а ведь могли бы расположиться совершенно иначе.
На «все суды истории праведны» следует ответить: суды истории могут быть бессмысленны и злы. Особенно нам, русским, следует это помнить. Историческое развитие не есть накопление вины; прекращение этого развития (революции, катастрофы) – не «закономерный итог», не «кара», но только один из возможных исходов. Прошлое перестало быть не потому, что оно было «виновно и обречено», не потому, что оно было «дурно»; новое победило не потому, что оно было «хорошо». Старое и новое – вообще не моральные, не качественные определения.
3. Искание чуда
Одна из главных, если не главная христианская черта – искание чуда.
Само по себе желание чудесного – вероятно, общечеловеческое. Одни народы видят чудесное во всем, не прилагая усилий; от других оно дальше; и чем выше развитие «разума», т. е. чем суше и холоднее жизнь, тем больше жажда чудесного, доходящая до настоящей страсти. Чудо напоминает «просвещенным» народам о том, что под корой видимого мира скрыто невидимое.
С областью чудесного, в той или иной мере, соприкасаются все религии; но только христианство, думается, связало себя с этой областью неразрывно – до такой степени, что борьба революции с Церковью была в первую очередь борьбой против чуда. Чудо есть ось христианства – не католического, как думал Достоевский, а вообще. Победа над природой доставляет христианину удовольствие. 30 Желание чудес, страсть к ним – прямое следствие известных слов о горчичном зерне. Где вера, там чудо; где нет чуда (победы над природой) – нет и веры. Не случайно «новый порядок» одновременно развенчивал «церковные» чудеса и прославлял собственные победы над природой. Только так он мог переманить веру к себе на службу.
Христианство радуется, видя нарушение естественного порядка вещей. Эту его черту наследует и левая «вера» – социализм. В центре левой идеи – вера в то, что естественные отношения людей и вещей суть нечто такое, что должно быть преодолено. (Как можно видеть, Ницше в этом отношении – чистокровный христианин.)
Конечно, библейская религия не исчерпывается своим вкусом к «чудесному», но этот вкус в нем – определяющий. Мир, – говорит она, – управляется разумным хозяином, и управляется чудесным образом. При этом нельзя отрицать: мистическое, то есть область скрытого смысла событий – поле деятельности любой религии. Кто не разгадывает тайного смысла событий собственной жизни, тот и не верует. Однако есть разница между мистическим (тайным) и чудесным.
Греки и римляне в качестве верующих людей кажутся беглому взгляду холодно-рассудочными, если не прямо безрелигиозными. Их вере недостает детскости, естественного для нас отношения к божественному. Люди древнего мира – взрослые перед своими богами. Нам эта взрослость кажется холодностью. Старая религия не требовала «верить» наперекор вероятности, не говорила о горчичном зерне и ввергающихся в воду горах.
Язычник знает, что боги могут не ответить, с этим ничего нельзя сделать; христианин думает иначе: это не Бог не ответил, а он, христианин, плохо верил. Христианство предельно напрягает человеческие силы, чтобы в конце сказать: ты недостоин. Можно даже сказать что сознание личного недостоинства – желаемое состояние христианина…
В отличие от язычника, христианина учат направлять ум и волю на невозможное. Если невозможного не случается – это его вина. Отсюда неизбывное искание чуда. Христианин – говоря упрощенно, – есть тот, кто верит в чудеса, и не просто «верит», но любовно ищет и находит их в повседневности.



