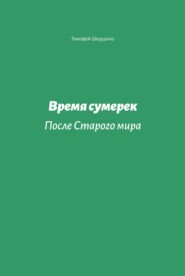 Полная версия
Полная версияВремя сумерек. После Старого мира
Только революция довела поклонение «бедному и простому» до логического конца. «Бедное и простое» пригласили править Россией – на словах, конечно, – однако допустимый уровень личного развития, оно же личное своеобразие, тем самым был отмерен скупо. Или бедная простота, или высокое развитие; развитие же всегда своеобразно. Угашение личного своеобразия во всех видах – истинный пафос революции.
Что же касается «народного» в смысле бедного и простого, то оно революцией даже поощрялось: частушки и т. д. – конечно, после расправы с крестьянством, когда никакой живой культурной преемственности в деревне уже не осталось. Конечно, эта «народность» была непритязательная. Ничего сравнимого, скажем, с «русским стилем» в архитектуре времен последних двух императоров она не создала.
VI
Строя культуру, мы поклонялись простоте. Непрочность культуры в России, отсутствие потребности в ней у большинства – прекрасно сочетались с чертами определенным образом понятого христианства: бездомностью и беспочвенностью. Идеал слабости и бедности – идеал библейский. Революция не случайно кривым зеркалом отражала христианский переворот. Та же «единая истина» без оттенков, та же бедность как идеал. Посмотрев внимательно, в христианстве мы видим революцию (против богатства и сложности древнего мира), в революции – христианство, т. е. поклонение слабому, простому и бедному.
Смысл христианства и социализма (действенный смысл, во всяком случае) не в том, что «нехорошо сильным обижать слабых», а в том, что «хорошо быть слабым» или хотя бы «как слабые». Эту же мысль проводили у нас народничество и опрощенство всех разновидностей, вплоть до филологического: «да опростите же наконец правописание, сделайте его доступным для слабых!..»
Христианство есть власть через надежду. Кто владеет людскими надеждами, тот владеет людьми. Однако резервуар надежд взрывоопасен. Христианство, в некоторым смысле – мать революции. Резервуар «надежды», вмененной в обязанность, в мирные годы давал устойчивость христианскому государству, но в бурные – взрывался, заставляя массы требовать исполнения отложенных ожиданий, причем с процентами. Где не «надеются», там не «отчаиваются». Общество, основанное на надежде, худо защищено от потрясений, больше того – непременно их предполагает.
Русскую революцию можно было бы назвать взрывом ложно направленных христианских чаяний… если бы в главном, в почитании слабости и бедности, в неверии в труд и культуру, эта революция не была дочерью христианства. «На земле воры; мир во зле; не заботьтесь; будьте как нищие». Слово стало плотью. Оказалось, что Старый мир был богат и велик вовсе не потому, что был «христианским миром».
Левая идея, говоря шире, всегда связывает этику и «угнетенность» (целиком повторяя библейское мировоззрение). Быть слабым и бедным нравственно; «горе дубам и высоким башням и кораблям Фарсисским». Так же рассуждает новейший западный социализм, применяя старое лекало к новым материям: люди «третьего пола» угнетены – следовательно, они более нравственны, нежели обычные мужчины или женщины; чернокожие угнетены – черный цвет кожи есть признак нравственного превосходства. Впрочем, тут делаются все возможные выводы: то, что делает человека «угнетенным», – и нравственнее, и естественнее, и человечнее…
При этом социализм враждебен всякой богатой и сложной культуре – за то, что она не основана на нравственных прописях, понятных и ребенку. Он естественным образом безнационален (потому что народность, почва – слишком сложны, укоренены в прошлом, заведомо не нравственны). И в том, и в другом он напоминает христианство. Его можно было бы назвать «нравственно чутким». Он столь же чуток к лицемерию, сколь сам к нему склонен. Но чаще всего его негодование вызывается вещами, сложность которых превышает «дважды два четыре» и «мама мыла раму». Культура, родина – все это выше его понимания, т. к. не поддается истолкованию с точки зрения морали. Социализм относится к ним с тем высокомерным презрением, с каким дети судят о чуждой им и к тому же недопустимой для обсуждения половой любви: «гадость какая, правильно мама говорила!» Когда сторонник всепобеждающего морализма берется судить о культуре и государстве, он отвергает их почти в тех же выражениях (Лев Толстой, Лесков во времена своего увлечения толстовством).
Нравственные суждения – самые простые; они не требуют ни ума, ни опыта, ни понимания вещей. Прилагающий ко всему нравственную меру принимает буквально евангельское: «если не умалится кто, как дитя…» Однако в этой детоподобности нет ничего обаятельного. Перефразируя Киркегора, можно сказать: «У жизни есть тайна от нравственности». Социализм враждебен этой тайне, то есть самой жизни.
Социализм обещает не просто «всѣмъ равный жребій», как говорил Ходасевич, но хочет, чтобы сильные стали, как слабые, богатые – как бедные (не говоря о новейших превращениях этого требования, обращенных на отношения полов). Его цель не численный рост сильных, но умножение слабых, добровольный отказ от способностей, сам по себе, может быть, и требующий силы, но ни к чему не ведущий. Требование вполне евангельское – но без евангельской нравственной строгости. И конечно – подобно христианству, добровольную слабость социализм предлагает не всем.
VII
На сказанное выше можно ответить: и хорошо; ваша «культура» не нужна народу, да еще и усугубляет неравенство – пора про нее забыть. Можно и так сказать: что тонкое и глубокое искусство нам не нужно, т. к. не служит цели развлечения масс, а незаинтересованные (т. е. безвыгодные, технически неприменимые, относящиеся к миру человеческого) суждения – тем более, потому что они бесполезны, были роскошью при старом порядке и стали ненужным излишеством при новой. Можно посоветовать искать духовного развития в Церкви и оставить культуру людям мелким, зато предприимчивым, помня завет Дж. Ф. Барнума: «Дураки рождаются каждый день». Но это означало бы оставить всякие мысли о смысле жизни, личного развития и погрузиться, как писал один старый автор, в «материалистические грезы». Погружайтесь – если вы можете и умеете так жить. Мне, однако, кажется, что совсем угасить человеческую тягу к глубине и сложности невозможно.
Что касается сложности и неравенства… Да: культура порождается желанием сложного и состоит в обладании плодотворными отличиями. «Плодотворные отличия» – те, которые изощряют ум и чувство, не сводятся к простому «формообразованию». Примеры пустого формообразования – пресловутые «увлечения», выбор стрижки или жевательной резинки или музыки. Эти увлечения, как я уже сказал, создаются для развлечения масс силами массового производства и сводят все мнимое разнообразие к нескольким серийного выпуска формам.
За поднятыми вопросами скрывается один, главный: зачем вообще существует общество? Есть ли ценность у высшего развития и в чем она? Греки считали своих богов заинтересованными зрителями, ценителями; как думает Ф. Нэйден, на этой почве вырастали и цвели искусства. Наша господствующая религия не ценит творчество. Правда, в новое время общество впитало достаточно языческих ценностей для того, чтобы принять самодостаточную ценность личного развития, выраженного в науках и искусствах.
Не все мы, но все же некоторые из нас верят, что чем выше и чем больше людей поднимется высоко на пути прозрачности и глубины внутренней жизни, тем… тем что? Мы не знаем. Мы догадываемся только, что данные нам способности должны быть развиты до конца, мы даже христианскую притчу о «талантах» давно перетолковали применительно к нашим талантам, хотя они-то христианству глубоко безразличны. Словом, мы видим в личном развитии религиозную ценность. Или, вернее, видели, п. ч. «культура для масс» никакого пути вперед и вверх не предлагает, отнимая, к тому же, у человека религию… С нашей стороны это, как и со стороны эллинов – вера. Кто-то требует, чтобы мы трудились честно, не разбрасывая полученные дары. И мы следуем этому пути.
VIII
Но к чему мы можем вернуться? К быту? Государственным формам? Я ставил уже этот вопрос и приходил к неутешительным ответам. Быт, формы, все твердое и определенное – слишком нестойки. «Почва» в культуре – скорее дух, чем обычаи. Бытовая традиция уходит невозвратно. Если мы будем снова русскими людьми романовской выправки, то выправка эта будет умственной, общекультурной. Борода не признак «традиции». Романовский русский был прежде всего европеец с русскими корнями. Возврат к традиции в России – это возврат в Европу или, выражаясь словами одной старинной книжки, в «россійскую Европію».
Возвращение к «почве», что касается мысли и слова, можно понимать только как возвращение к классической почве, т. е. к русскому европейству романовского стиля – не к тому бедному и простому, что у нас принято считать «почвенным» и «народным». «Народное» и «национальное» (имперско-европейское) у нас в России различны, в этом А. Салтыков совершенно прав.
Другое возможное возражение: зачем нам «романовский стиль», у нас будет все новое. На это я скажу, что второго Петра – не будет, и второй волны европейского влияния в петровском смысле, т. е. усложняющей и творческой, также не будет, потому что нет более той Европы, у которой можно было учиться выправке, творчеству, порядку. Европа лежит в болезни, встанет ли и какой – не знает никто.
Главный вопрос русской мысли сейчас – вопрос о преемственности, о непринятом наследстве. В 1920-е годы сложная умственная жизнь ушла из России в Европу, да так и не вернулась. Это наследие Россия отталкивает. Оно сложно, ей непонятно, ненужно, «не наше». Однако «все это давно было, кончилось, не наше, нам не нужно» – слова пустые. В области духа ничего никогда не кончается; любое наследство находит наследника.
К сожалению, само понятие «духовной жизни» в нынешней России – понятие историческое. Духовная жизнь понимается или как предмет изучения – в русском Париже, в московской Руси, – или как нечто из церковного обихода. Дух личен, неповторим, своеобразен, а следовательно, не «научен»; ценится же «научность», т. е. предельное отсутствие личности в ее трудах.
Конечно же, восстановление линии преемственности не означает простого переноса известного исторического момента в современность. Наша культура жила прежними соками на протяжении, по меньшей мере, 40 лет после падения Старого мира, пусть и «внеземельно», т. е. за пределами государства. Эта «внеземельная Россия» – ближайший к нам источник культурной силы…
Восстановление преемственности означает в то же время разрыв с теми, кто хотел разрыва с преемственностью. Революция неисторична и в историю включена быть не может, несмотря на требования поздних ее защитников. Или вы в истории, или вы начинаете «новый мир» на пустыре. На пустыре вас и оставят потомки.
XXVI. Личность и слово
Отличительной чертой Старого мира была неразделимость личности и слова. Эта связь ослабела, стала призрачной, но еще оставалась заметной при «новом порядке» и, кажется, окончательно разрывается теперь. Неограниченная свобода слова для всех лишает слово его прежней силы. Слово, которое отобрали у дурно или хорошо мыслящих одиночек и отдали массам – теряет связь с мыслью и становится развлечением. Отныне можно не беспокоиться о цензуре: в море слов утонет всякий смысл; сапоги естественным путем станут «выше Пушкина». Надо только разорвать незыблемую прежде связь слова и личности, и слово перестанет быть силой.
Поговорим о корнях основанной на слове культуры и о ее превращениях в XX столетии.
***
В Старом мире слово воспитывало личность, и словом же эта личность полнее всего выражалась. Вопреки видимости, это не христианская черта (как и вообще уходящий мир не был исключительно «христианским» миром), но эллинская. Что это за эллинство? Вкратце – культура, призывающая личность к широкому и высокому развитию, измеряемому в слове.
Вот суть эллинства, как ее формулировал Исократ: «Обладая способностью убеждать дрyr друrа и ясно выражать любые свои мысли, мы не только покончили с животным образом жизни, но и объединились в общество, основали rорода, установили законы и изобрели искусства. И почти во всем, что было нами придумано, нам оказало свое содействие слово». Слово как сила, одновременно определяющая и выражающая личность – плод языческой культуры.
Без литературы, поэзии – греки не могли помыслить воспитания. «Поэт, – говорит В. Йегер, – с греческой точки зрения в определенном аспекте ближе законодателю, нежели художник: воспитывающее воздействие – вот что их роднит». И дальше: «История греческого образования совпадает в основном с историей литературы. В первоначальном смысле, которого придерживались ее творцы, литература есть выражение самовоспитания античного грека».
В значительной мере это относится и к нашему Старому миру.
***
Русская история если не от Петра I, то от Екатерины II – отмеряется не столько именами царствующих особ, сколько поэтов (называя этим словом всякого пишущего по вдохновению). Возвышение от Державина, первая вершина при Пушкине, излом Гоголя (переход к моральному служению), вторая вершина при Леонтьеве, Достоевском и Толстом, постепенное падение прозы и возвышение поэзии в век символизма, одинокая розановская возвышенность и, наконец, третья вершина – русская мысль (чтобы не употреблять потерявшее кредит слово «философия») первой, белой, эмиграции. Затем – унылая равнина «советской литературы» без мысли и страсти; и наконец, низины постыдной литературы «почесывания пяток».
Может показаться, что говоря о языке как мере развития личности, обращаясь к русской литературе как свидетельнице личного развития поколений, ее создававших, я впадаю в обычное для России преувеличение, вернее сказать, подмену: подмену развития нации развитием литературы.
Об этом когда-то говорил Розанов: начиная с Гоголя мы больше сил вкладывали в литературу, чем в жизнь; жизнь слабела, литература цвела. Нечто подобное произошло в Америке с кинематографом. Кинематограф там подменил жизнь, вернее, дивно ее истолковал: сгладил противоречия, скрыл слабости, выпятил сильные стороны. Русская литература действовала в обратном направлении. В стране, жизнь в которой была и полной, и достаточно свободной, и шедшей скорее к богатству, чем к бедности, для возможно большего числа людей – эта литература запечатлела неполноценное, слабое и бедное. Делала это она из моралистических соображений, о которых мы не раз говорили. «Заставить как можно большее число людей испытывать стыд» – это движущая сила не только христианства, но и наследовавших ему светских общественных движений.
Однако литература (или любое другое искусство) не должна подменять собой жизнь, быть ей «зеркалом» – кривым или предписывающим. Литература вообще не имеет никаких нравственных или этических обязательств. Но при этом она создается высокоразвитыми личностями и, силою вещей, создает новых личностей. Литература – школа; поэт – учитель.
***
Естественное развитие литературы и личности, т. е. путь к «цветущей сложности» и богатству, осложнялось в России местными особенностями.
С нашей тягой к народному, понимаемому как простонародное, и достоинство литературы видели в ее «народности». Достоинство речи, однако, в ее содержании. Самый богатый мыслями русский писатель – Достоевский – писал языком совсем не «народным», и вовсе не «народен» по содержанию. То же и Пушкин. К народному языку они прислушивались, не более. «Народность» – у Некрасова, у Лескова (отчасти; и ломания языка у Лескова немало), но мыслей эти писатели по себе не оставили. 25
Чтобы говорить у нас о литературе, надо прежде всего расчистить завалы, оставленные «освободительным движением», начиная с добролюбовского: «литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что и какъ она пропагандируетъ». Это противоестественное понимание царствовало долго, приведя в конце концов к усталости, пресыщению и вере в то, что литературе всякие ценности должны быть чужды, т. е. к нигилизму – последнему выводу из «нового порядка». Вышедшая из-под опеки русская литература принялась пересмеивать все прежде написанное, радуясь избавлению от пропагандной и морализаторской роли. Однако этот пьяный загул – не избавляет от раздумий об истинном значении литературы. Это значение – воспитательное; прежде всякой морали, прежде всякой пропаганды. Воспитание глубже и тоньше нравственности и политики; его задача – воспитать личность, а не преподать манеры или убеждения…
С этой ролью русская литература справлялась тем лучше, чем меньше пеклась об исправлении мира или человека, т. е. чем меньше было в ней морали. Начиная с Гоголя, наша литература захотела Единой Истины, стала на путь наступательного морализма, т. е. на путь христианский или «левый».
Что если не предопределило, то обосновало будущие события. Если исторически революция была случайностью – день 8 марта 1917 и в самом деле мог, как говорит Мельгунов, пройти без происшествий, – то случайностью подготовленной. Нельзя безнаказанно манить людей «правдой» на горизонте или за горизонтом, не будучи готовым показать эту правду вблизи. Нельзя вскармливать жажду «неба в алмазах» во взрослых свободных людях, могущих применить свои силы и способности к выбранному труду. А свобода этого поколения превосходила все, бывшее впоследствии – при «новом порядке».
***
Наступательный морализм – ядро как левого, так и библейского мировоззрения. Смысл его в том, чтобы заставить как можно большее число людей испытывать чувство вины, а корень – в том убеждении, что «мир лежит во зле» и должен быть преобразован, при этом «зло» есть внешняя сила по отношению к Творцу или Истории. Зло – всегда вовне, в дьяволе или в прошлом.
Тут, конечно, скрыто противоречие. Творец благ, но созданный Им мир постоянно, от века «лежит во зле». История блага, но все ее создания, от начала и до наших дней, ретроградны и отвратительны, кроме разве что самых последних. Кто виноват? Христиане переносят ответственность на дьявола. Социалистам труднее. «Классы и массы» не дьявол, «клеветник от начала». (Правда, национальный социализм нашел дьявола в том самом народе, который его измыслил, и тем облегчил себе толкование мировой истории.)
В практическом применении – этическое мировоззрение в обоих видах создает человеческий тип, готовый к борьбе и полный надежд; разница только в том, по какую сторону смерти, здесь или инде, эти надежды исполнятся. Это тип, так сказать, «идейного» верующего или идейного социалиста. Далекое от крайностей большинство, как в социализме, так и в христианстве, не прочь повздыхать о «небе в алмазах», но не готово ради него совершать усилия.
Что же касается общества и искусств, то наложение все более давящего ярма принудительной праведности искажает человеческие отношения и убивает искусство, которое в своих основах питается вещами безнравственными или вненравственными: любовью, удовольствием, радостью; та же судьба ждет всякую свободную мысль. «Этическое мировоззрение» требует, чтобы люди прежде думали о том, «как нам быть вполне хорошими», а уже потом жили и действовали. Ничего хорошего, плодотворного, теплого, оставляющего следы в потомстве из этого, как известно, не выходит. Этическое мировоззрение вредит и отношениям с божественным. Из всякого жизненного события оно делает или кару, или награду, а человека уподобляет ученику приходской школы, ожидающему поощрения или наказания.
Надо сказать, что еще в древности – этическое мировоззрение, в позднем греческом его воплощении, рано пришло к тупику. Уже стоики поняли, что если божество едино и благо, то этого блага человеку не понять: остается утешаться тем, что все в мире идет к некоей неизвестной нам цели, в том числе и эта человеческая жизнь. Христиане облегчили постановку вопроса, создав дьявола. В XX столетии по Р. Х. почти общепринятой стала вера в то, что если делами мира кто-то и занят, то скорее всего это дьявол. Булгаков выразил это убеждение в знаменитом романе.
Как и христианство, социализм (левая идея) нуждается в дьяволе, и находит его в людях, принадлежащих к чуждому классу, народу или биологическому полу. Дьявол нужен левому мировоззрению, как воздух – поскольку оно верит в благость истории. Зло всегда в прошлом и из прошлого; новое, «передовое» – всегда доброе; источник зла вне современности, вне «прогресса».
Вот краткое содержание средней, рядовой «прогрессивной брошюры» с тех пор, как русский человек, вместе со всей Европой, под влиянием Гегеля уверовал в Историю, как христиане верят в своего Бога. «Передовое мировоззрение» – христианство, в котором Бог заменен Историей. Гегеля можно без преувеличений назвать последним великим европейским богословом, если не прямо создателем новой религии.
Было бы ошибкой сказать, что эта «религия» непосредственно привела к провалу русской культуры в 1917-м. Добросовестно принятое христианство: «Царство Мое не от мира сего, ибо мир во зле лежит», не уравновешенное могущественным языческим наследством, не подточенное Возрождением – было не менее опасно. Тем более, что в России христианство долгое время было единственной культурной силой. Другие основы культуры появились у нас очень поздно, уже при Романовых, и в конечном счете не смогли соперничать с всеуравнивающей христианской идеей. «Не надо сложности, надо равенство!»
***
И «равенство» пришло. Разумеется, оно указалось не равенством, а уравнением, т. е. приведением к одному уровню. Это уравнение не замедлило сказаться на развитии языка и личности.
Что такое язык при «нормальных» условиях? Это – многоэтажный дом, от подвала до башенки на крыше. В этом доме нет единых, равно понятных и необходимых от подвала до крыши правил – потому что у «подвала» и «крыши» нет общих потребностей. Язык им нужен для разных целей. Первые им, как правило, пользуются, изредка что-то прибавляя от себя; вторые, из поколения в поколение, его создают, очищают, делают сложнее и притом яснее. Для первых язык – данность; для вторых – орудие личности, но и форма, по которой отливается личность. При «нормальных» условиях государство не вмешивается в жизнь языка, предоставляя народу – от извозчиков до поэтов – его развитие. Для справки: в старой России автору предоставлена была очень широкая свобода применения правил, вплоть до измышления новых правописаний (румынскими буквами, например, или «безъятных»). Набранные такими правописаниями книги благополучно проходили цензуру и находили своего читателя.
С точки зрения «нового порядка» – язык, как и все остальное в государстве, есть нечто управляемое, подлежащее обустройству. Истинное соотношение языка и людей, на нем говорящих, конечно же, совсем другое. Мы настолько же принадлежим стихии языка, насколько она принадлежит нам; возможно даже, что власть языка над нами больше нашей власти над ним. Поэтому так важно освоить правильные, т. е. богатые, способы выражения мыслей. Бедные способы выражения с необходимостью ведут к бедности мышления. Революция не случайно бросается ломать язык сразу после победы. Он слишком сложен для ее умственного склада, он просто не подходит для выражения ее мыслей.
Однако язык не мыслит и сам по себе никаких мыслей не предписывает. Он – отпечаток мышления поколений. Разрыв с историческими формами выражения всегда рвет и с содержанием мысли как таковой. Если мысль – поток, то письменный язык – его русло. Нельзя помыслить то, для чего нет средств выражения.
Итак, «новый порядок» принялся упорядочивать язык тем же способом, каким он упорядочивал всё остальное. «Только предписанное дозволено». Через каждый десяток лет (а в первые двадцать лет после переворота – гораздо чаще) Академия выступала с новыми подробными и исчерпывающими «научными правилами». Некоторые из них остались только в проекте, вроде насаждения латинского алфавита – якобы для наилучшего слияния с передовым пролетариатом Запада. «Законобесие» этого рода длилось примерно до 1956 г., затем почти остановилось, но временами возрождалось в виде, например, внезапного запрета дефисов в словах вроде «западно-европейский», «железно-дорожный».
Насаждение «научной пунктуации» при новом порядке доходило до смешного: условный Розенталь выводил правила употребления запятых, ссылаясь на новые издания классиков, запятые в которых были расставлены корректорами новой эпохи заново, с оглядкой на все того же Розенталя. Подтверждающая ценность этих примеров из якобы Толстого и Гоголя равна нулю, т. к. они и писали, и печатались совсем иначе.
«Научная» орфография, «научная» (то есть шаблонная, усредненная, лишающая автора свободы) постановка знаков препинания – естественно вытекали из нового понимания вещей. Ничто не должно было «расти», «развиваться», жить по своим законам. Все должно быть предписано – во-первых, и во-вторых – обезличено и опрощено. «Телеграфный столб есть хорошо отредактированное дерево», грустно шутили писавшие при «новом порядке». Лишенная сложных форм речь воспитала целые поколения, лишенные сложных мыслей. Смутное желание сложности, правда, осталось – отсюда ложноученая заумь в духе уже цитированного: «Импрессионистичность, активность подтекстово-ассоциативного уровня текста, апелляция к архетипическим праистокам национальной ментальности»…



