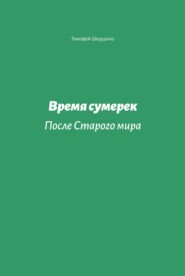 Полная версия
Полная версияВремя сумерек. После Старого мира
При этом «новый порядок» не разрывал окончательно с культурой, основанной на слове. Правители поощряли риторические упражнения (по возможности такие, за которыми не стояло мысли), но наиболее деятельно поддерживали ту культуру, которая для выражения не нуждается в словах и потому не образует личность. Эта внесловесная, техническая культура и пережила «новый порядок».
Да, «новый порядок» приобщал массы к слову, но у этого слова было отнято значение. Мысль заменили риторикой. Глубина культуры и образуемой ей личности все уменьшалась по мере роста ее охвата. Кончилось дело культурой без вечного или хотя бы долговечного содержания, существующей просто для того, чтобы обученным читать массам не остаться без книжек.
Если бы речь шла в самом деле о приобщении «народа» к культуре (а не полупросвещению)! Действительно приобщенный к культуре народ из существа опекаемого стал бы существом свободным, мыслящим и чувствующим, и помыслив, захотел бы поэзии и религии. Не это входило в замысел «нового порядка». Народ учили читать вовсе не затем, чтобы он думал над прочитанным; напротив: для того, чтобы он прочитанному верил.
Не следует думать, будто и сейчас, в условиях «всеобщего среднего» и почти всеобщего высшего образования, в круг просвещения включены «массы». Массы от него стоят дальше, чем прежде. Для заполнения жизни им дан спорт и связанные с ним низкие страсти – вместо труда, обычаев и религии, которые заполняли жизнь их прадедов. При этом они уверены в своей просвещенности; они «грамотны» (т. е. умеют читать и, как правило, двух слов не могут написать без ошибки); они «выше» тех самых прадедов, т. к. не верят в богов, ненавидят царей, убеждены, что прошлое во всех отношениях было хуже настоящего… Эти три «роковых достоинства» они разделяют с интеллигенцией.
***
Важный вопрос: а какова цель «просвещения»? «Как можно большее число людей приобщить к знаниям», говорили прежде. «Получить как можно больше грамотных и работящих служащих», 26 стали говорить при новом порядке. Но зачем знания тем, кто не умеет думать? Единственно для выполнения более или менее неквалифицированных, но «чистых», не требующих физического труда работ. Значительная часть этих работ не имеет никакой ценности и нужна только затем, чтобы чем-то занять «образованных». К желанной цели – распространению самосознания и способности мыслить – это не приближает.
У просвещения есть пределы. Зададимся вопросом: нужна ли всему народу способность мыслить – и для чего? Можно ли приобщить всех к культуре, основанной на слове, и какого качества будет такая всеобщая культура? Ответ известен. Имя такой культуре – полупросвещение. Полупросвещенный подражает просвещенному, проделывая все те же действия, что и последний (например – пишет статьи), но за этими действиями нет мысли. Таким образом, у просвещения есть предел, за которым количество мысли и качество умственного труда начинают убывать – если не прямо обращаются в ноль.
«Культура по существу удѣлъ богатыхъ и сильныхъ», говорил В. А. Маклаков. Культура аристократична. Она и не годится для «всех», и не «всем» и всегда нужна. Культура – состязание и отбор, cледовательно – для сильных и способных. Но как узнать заранее, кто силен и способен? Наш век отвечает: никак. Приобщим к культуре всех, а дальше – как получится. Получается – чудовищное понижение уровня; слово без личности; власть трафарета, выдаваемого за кипение умственных сил. За примерами далеко ходить не нужно, созданная «новым порядком» культура у всех нас перед глазами.
Мера просвещенности – не посещение музеев, занятие пассивное, не требующее деятельности, как и чтение или слушание музыки. И чичиковский Петрушка читал… И на закате «нового порядка» массы в России читали как никогда много. Просвещенность проявляется в творческом труде, в стиле эпохи – как модерн проявлял себя во всем, от уличного фонаря, формы окон до особенностей шрифта и типографской виньетки.
Архитектура, типографское искусство процветают там, где являются средством выражения мысли, подобным музыке и слову. Нечего выражать там, где личности нет. Полупросвещенность производит эпоху бесстильную, чисто утилитарную. Вещи перестают говорить с человеком; или, что тоже, человек перестает вкладывать в вещи душу.
Нас с детства приучают к безобразию всех сторон жизни, начиная с архитектуры и продолжая книгоизданием. Поэзия и живопись шрифта становятся недоступны; переживание красоты письменного слова (еще живое в Японии, например) нам уже неизвестно. Где здание и сарай различаются только размерами – там и внешний облик слова кажется чем-то совершенно неважным. А слово… слово само по себе не священно. Можно изучить все слова, но не видеть их смысла и употреблять наугад, как тот же гоголевский Петрушка складывал буквы: «иногда Богъ вѣсть что изъ нихъ и получается».
***
В области мысли новый порядок вырабатывал искусство «мимосмотрения». Ум приучался не видеть изначальных, важнейших понятий: религии, нации, традиции, духа; зато всегда и везде находил выдуманные или второстепенные «классы и массы» и связанные с ними вопросы. Мимосмотрящий ум, сколько ни трудится, никогда не доходит до первостепенных, коренных вопросов, т. к. трудится над видимостями.
Вместо того, чтобы «изучать» классическую русскую мысль (т. е. мысль поздней романовской эпохи и венчающую ее мысль Белой эмиграции, этого блестящего послесловия к романовско-русской культуре), у нее надо учиться мыслить – «предметно», как говорил Ив. Ильин, трудясь над глубинными, первообразными вопросами.
Важнейшая трудность на этом пути – оторванность образованного слоя от прозрачного и глубокого литературного языка (замененного жаргоном) и, неизбежно – невыработанность личности, т. к. себя и свое место в мире помыслить «на жаргоне» невозможно. Пошлость не дает средств для выражения глубины; а так называемый «язык гуманитарной науки» есть именно сгущенная пошлость, набор общих фраз и иностранных слов, лишенных всякого определенного значения, больше пригодный для камлания, чем для мышления и выражения мыслей. Бумага все терпит. Написать какое-нибудь «функционирование индивидуума в роли автохтонного хронотопа» гораздо легче, чем осознать смысл написанного, а тем более определить свое место в мироздании. Самопознания, самоосознания «на жаргоне» не бывает.
***
Казарменный умственный строй, привычка ко всему усредненному, рядовому, дюжинному – пережили «новый порядок». А вот идея «единой истины» пришла в Европе к полному банкротству. Говорю: «в Европе», потому что Соединенные Штаты, кажется, только ступают на путь, европейцами до конца пройденный.
В XX веке обанкротилась не только социалистическая «новая истина». Этическое мировоззрение библейского образца также под угрозой. Ведь основная мысль этического монотеизма в том, что мир есть разумно и нравственно устроенное предприятие с мудрым Хозяином во главе. Это самое уязвимое место христианской философии, и потому излюбленная мишень для критики. Защитить рационально и нравственно устроенный мир невозможно. Сколько усилий потрачено на развенчание веры в разумность мироздания… При этом развенчатели уверены в том, что борются с «религией вообще», в то время как в действительности оспаривают одно из возможных богословий.
Христианство, в союзе с великими мудрецами древности, сделало ставку на мир с единой целью, единым смыслом, единым Хозяином. Ставка была проиграна. Современному атеизму нечего сказать о богах и божественном, но на идею «единой истины» он не устает обоснованно нападать. При этом атеист борется не с «религией вообще», но только с одной из возможных ее разновидностей: той, что видит в мире одну силу, один смысл, одну цель.
Кстати о развенчателях: «новый порядок» требовал разорвать с Библией, находясь всецело в ее тени; в то время как единственный действенный разрыв с библейским мировоззрением означал бы выход из этой тени. Так уж устроен атеизм: он борется против ветхозаветного мировоззрения с истинно ветхозаветным пылом…
Однако банкротство «единой истины» не означает еще банкротства эллинизма, с которого мы начали этот разговор. Напротив, сохраняя верность эллинскому началу, мы можем вернуться к миру состязающихся истин. Не в смысле глупой «толерантности», конечно. «Толерантность» предполагает, что одни истины (истины агрессивного меньшинства) более истинны, чем другие, т. е. само начало состязательности из нее изъято. Именно «толерантные» истины и не готовы соревноваться, поскольку заранее знают, что состязание ими будет проиграно.
Сумерки – часть промежутка между старым и новым днем. Наша эпоха – промежуточная, сумеречная. Мы должны сохранить ценности уходящего дня, чтобы передать их новому. А в остальном – снова вспомним эллинов. Как говорит Йегер о греческом поэте:
«<Он> призывает свое мужество восстать из пучины безысходных страданий, куда оно погружено, отважно подставить грудь врагам и, уверенно ступая, приготовиться к обороне. „Ты не должно ни хвастать перед всеми, окажись я победителем, ни забиваться в случае поражения в дом и там стонать: радуйся тому, что достойно радости, не слишком поддавайся несчастью и распознавай, какой ритм держит людей в своих узах“».
XXVII. Воспитание нации
Пусть это звучитъ «анти-демократично» и не въ духѣ нашего времени, но языкъ, культура и даже сама «нація», которой языкъ и культура служатъ лишь выраженіемъ, живутъ въ высшихъ, просвѣщенныхъ классахъ общества и ими же создаются. Языкъ, нація, культура – все это есть нѣчто духовное, имѣющее мало дѣла съ физіологическимъ и этническимъ существованіемъ массъ.
А. Салтыков
На предыдущих страницах мы уже говорили о нации, национальной культуре. Что это за нация? Откуда она берется? Естественно предположить, что нация – совокупность привычек, обычаев, влияний, идущих от самого ее зарождения, словом, нечто такое, что «вырастает» естественным образом и на что никто из живущих не может повлиять. То же самое говорится нередко о языке: он просто «развивается», а наше дело – наблюдать, в каком направлении пойдет развитие. Но и язык не просто развивается, а создается осознанными и не вполне осознанными усилиями. Тем более – нация.
На одной и той же исторической почве может вырасти несколько разных наций, как и несколько разных языков. То и другое зависит от получаемого обитателями этой почвы воспитания. Наша русская почва за истекшие сто лет видела нацию, созданную Романовыми (о ней мы будем говорить ниже); видела «новую историческую общность», которую пыталась создать революция (и об этом мы также поговорим); видит теперь т. н. «россиян»…
Личность и нация определяются сложными формами поведения. Пока их нет – перед нами только существо и совокупность жителей. Быть как личностью, так и нацией – значит обладать некоторым богатством, суммой положительных и воспроизводящихся отличий от товарищей и соседей.
Все это – плоды воспитания. Нация не просто «вырастает» но как и личность, воспитывается. Не все личные черты воспитуемы; также и черты нации. Иное можно усилить, иное ослабить; трудно внушить то, чего нет. Одного в том и другом случае сделать нельзя: привить некоторые ценности словами, без всяких за ними стоящих дел. И еще: никакое воспитание не может быть обращено к «массам» – только к личностям. Воспитывают личности и личностей. И наконец, третье правило воспитания: человек может передать другому только то, что есть в нем самом; машина воспитания требует, таким образом, наличия некоторого «воспитанного остатка». Вот почему в развитии народов и личностей так важна преемственность; очень мало таких племен, которые сами проходили бы весь путь от первобытности к высшему развитию.
И о том надо сказать, что нация, национальное – совсем не то, что «народность». Нация на вершинах, а не в корнях; в сложном, а не в простом. Нация образуется, усложняется и растет, народное – существует. Нация живет в истории, рождается и может погибнуть – народное вне истории и почти бессмертно.
Нация – культура, самосознание. Ее присутствие в разных слоях народа, разных местах даже – неравномерно. Вопреки народническим верованиям, город «более» нация, чем деревня; аристократия более национальна, чем фабричные рабочие… Сознание ценностей, стягивающих личностей и сословия в нацию, сильнее на высотах, слабее в долинах. Там, в долинах, меньше времени на размышления и саморазвитие. Никакое «всеобщее среднее образование» этого не отменяет.
Государство, «территория», границы – все это не создает нации само по себе. И наоборот, может быть нация без государства и границ – как была в первой половине XX века «внѣземельная Русь» (выражение Н. Чебышева).
Как нация, так и личность создаются формообразующей силой плодотворных стеснений и правил, выучкой. Эта выучка – не отсутствие человеческих недостатков, а способность к высшим, достойным формам жизни несмотря на человеческие недостатки. Прививка достоинства и выправки всегда достается немногочисленному меньшинству – аристократии, а затем разносится, если так можно сказать, через подражание и стремление к высшему.
I. Романовская нация
Россия – одно из тех мест, где культурная почва особенно тонкая. У нас не было преемственности от прежде бывших великих народов (Рим далеко; византийцам мы были нужны не как ученики, но как данники). Династии Романовых пришлось создать недостающую преемственность искусственно, и то на исторически недолгий срок; «привить, – перефразируя Ходасевича, – классическую розу к московскому дичку». Создав новую преемственность, Романовы создали и новую нацию: имперскую, «российскую», европейско-русскую.
Достоевский говорил, что петровские реформы ничего не дали русскому человеку, кроме принудительно введенных европейского платья и бритья бороды; мы в подробностях поговорим об этом дальше; пока что скажу, что речь шла о более важных вещах. Как это блестяще сказано А. Салтыковым:
«Имперія по самому своему существу была борьбою – отчего не сказать правды? – съ темными, разрушительными началами, съ хаосомъ и анархіей Великорусскаго духа, съ этнизмомъ Москвы. И въ этой борьбѣ надежнѣйшимъ союзникомъ Имперіи были именно наши новыя западныя области. При этомъ особую цѣнность придавало ихъ помощи и содѣйствію то, что они дѣлали и самую борьбу двухъ міровъ – не особенно замѣтною: благодаря ихъ молчаливому содѣйствію, огромнѣйшіе результаты достигались какъ бы сами собою. Такъ вовсе не великороссійскія, не «истинно-русскія» чувства права, порядка, дисциплины, лоялизма и красоты, такъ – черты настойчивости, выдержки и Ломоносовской «благородной упрямки», такъ цѣлый рядъ болѣе культурныхъ привычекъ и склонностей – становились постепенно «истинно-русскими» чувствами, чертами и привычками».
Поверхностный взгляд может увидеть сходство петровской реформы и «нового порядка». Формула «царь Петръ былъ первый большевикъ» пущена уже Волошиным. Но сходство поверхностно. Петровский порядок был насильственным, но соединением прежде разделенных начал (см. очерк «Бедное и простое»). «Новый порядок» предполагал не просто усиление машинного, американского элемента в русской жизни, но полную замену всего органического, вырастающего из исторической почвы – машинным. Тогда как богатые плоды приносит только новый сплав прежде раздельных начал, а не уничтожение одного в пользу другого.
Петр не просто «навязал» России новые ценности (как думали славянофилы и Достоевский). Русское – не просто «народное» в европейской огранке (или в европейском искажении). «Русскость», какой мы ее знаем между XVIII веком и 18 годом, возникала по мере усложнения и роста. Ведь воспитание народа, как и личности, не просто совершенствует природные достоинства, а открывает их; иначе говоря – делает возможным их проявление. Так создавалась и новая русская (или, как предпочитает говорить А. Салтыков, «российская», т. е. имперская) нация.
Русский человек имперского, романовского склада не скрыт внутри протопопа Аввакума или царя Алексея, как будущий взрослый не скрыт внутри ребенка. Ни Пушкина, ни адмирала Колчака в зерне русской личности, какой мы ее видим в XVII столетии, найти нельзя. Развиваясь, личность и нация усваивают, т. е. делают своими, прежде чужие им ценности, и уже на почве этих ценностей продолжают развиваться, находя в себе новые способности и желания. Развитие есть создание почвы для будущего развития. Оно самоценно. Оно не «подготовка» к чему-то заранее известному, не дрессировка в определенную сторону. Плоды этого развития не предопределены, а едва намечены природными склонностями, проявляющимися в еще неразделенно-слитном характере молодости.
О достоинствах «романовского», имперского типа много и хорошо говорит И. Ильин. Однако не без подмены. Он не делает разницы между русским и романовским, имперским типом, и потому не видит основного внутреннего противоречия и источника сил Империи: наложения европейских воли и выучки на русскую бесформенность, «душевность». О нашей способности к дисциплине много говорит само понимание этого слова: в нем видят нечто теплое, симпатичное. На деле «душевный» значит «бесформенный», недовоплощенный. Ни к Пушкину, ни к Достоевскому нельзя применить этого слова; можно, скажем – к Некрасову.
Говорит Ильин и о том, что русский тип будто бы изначально христианский – а особенно в своей петровской, имперской разновидности. Второе нельзя не оспорить. Старообрядцы, называя Петра «антихристом», были на свой лад правы. Вся романовская эпоха была поскольку европейской, постольку и антихристианской. Романовы (начиная с Петра) выдвигали сильных. Не богомольцев, не калик, не юродивых, но сильных. Добросовестный христианин видел в этом несомненно языческую черту. Это и в самом деле была римская прививка, так нам необходимая. Власти был нужен человек решительный, способный бороться, и такого человека она возвышала. Это был разрыв с добродетелями неделания (а добросовестный христианин есть тот, кто уклоняется от мира и его дел; если в Европе мы видели в прежние времена деятельных и даже воинственных христиан, то это потому, что Рим в них был сильнее Писания). «Новый порядок» в 1918-м вернулся в Москву во всех смыслах. Ему больше не нужны были сильные; смирение снова стало добродетелью; иждивенец – достойным гражданином. Римская прививка была отторгнута.
Почему это случилось?
II. Надрыв просвещения
Общепринятый взгляд известен. «Классы и массы», угнетение, народное возмущение… В действительности в России случился надрыв просвещения, т. е. кризис, вызванный слишком быстрым, подобным наводнению, разлитием «образованности». (Ставлю слово в кавычки, т. к. на самом деле во время кризиса просвещения именно образования личности в школе не происходит; человек получает известную сумму знаний и на том его приготовление к жизни заканчивается. Но я опередил изложение.)
Что я имею в виду, говоря о «просвещении» как о чем-то отличном от «образования»? Обратимся к «Пайдейе» В. Йегера:
«Воспитание как функция человеческого сообщества – нечто столь общее и необходимое по природе, что самоочевидность этого факта для тех, кто является субъектом или объектом этого процесса, долгое время почти не осознается и лишь сравнительно поздно оставляет следы в литературной традиции. Его содержание у всех народов приблизительно одно и то же, оно одновременно имеет моральный и практический характер; и у греков дело обстоит не иначе. Частично оно облекается в форму требований, таких как: почитай богов, почитай отца и мать, уважай чужеземца; частично заключается в устно передаваемых в течение столетий предписаниях внешней благовоспитанности и правилах практической житейской мудрости; частично сообщается в профессиональных познаниях и навыках, которые, в той мере, в какой они подлежат передаче, греки обозначали словом τέχνη. <…> От воспитания в этом смысле отличается образование человека путем создания идеального типа, обладающего внутренней цельностью и особым складом. Образование невозможно без мысленного представления об образе человека, каким он должен быть, причем оглядка на утилитарные потребности безразлична или, во всяком случае, не столь существенна, а решающее значение имеет καλόν, τ. е. прекрасное в обязывающем смысле желательного образа, идеала. <…> Образование сказывается на всей форме человека – как на внешних проявлениях и манере держать себя, так и на внутренних установках. И то и другое возникает не случайно: это продукт осознанного культивирования».
Добавлю, что кроме воспитания, которое дает т. н. «нормы общежития», и образования, которое формирует личность, есть и третье: просвещение, т. е. сообщение некоторой суммы знаний. Оно необходимо, но не самоценно. Однако почти только о нем и заботился в России «новый порядок»… В практическом применении «просвещение» без воспитания и образования создает только технически грамотный класс без культурных привычек. 27
В «нормальных» условиях воспитание, просвещение и образование дополняют друг друга. Количество требующих учения не превосходит способностей и численности преподавателей. Мера успеха в этих условиях – возможно большее, без понижения уровня, число людей, вовлеченных в плодотворное, словом выраженное самосознающее существование. Россия пушкинских времен не удовлетворяет этому условию; не удовлетворяет и Россия «нового порядка». Равновесие между количественным разливом просвещения и его качеством – было, наверное, достигнуто к концу XIX столетия, т. е. к началу Серебряного века. Собственно, Серебряный век и был признаком успешной культурной политики поздних Романовых.
Как все плодотворные общественные (и душевные) состояния, это было положение неустойчивого равновесия. Можно было бы ждать и дальнейших успехов – при условии плодотворного ограничения числа приходящих к просвещению. Перегрузка аппарата просвещения, если так можно сказать, выводит его из строя, причем разрушения множатся, а бороться с ними некому, т. к. нарушается и обучение обучающих. В конечном счете мы получаем машину для воспроизводства полуобразованности.
Так и было в России после Великих реформ. Я уже вспоминал слова П. Б. Струве о «разливе полуобразованности». Этот разлив, говорит Струве, —
«обратная сторона всесторонней и стремительной демократизаціи Россіи въ царствованіе Николая II.
Эта демократизація означала не столько проникновеніе «народныхъ» или «простонародныхъ» элементовъ въ языкъ, сколько разливъ въ языкѣ и литературѣ стихіи полуобразованности, всегда знаменующей стремительное пріобщеніе къ культурѣ и вообще быстрое и нестройное усвоеніе языка и культуры новыми и доселѣ ей чуждыми элементами. Эти перемѣны происходили въ періодъ съ конца 80-хъ гг. до самой войны и революціи.
Никогда, быть можетъ, за всю исторію человѣчества средняя и высшая школа не «перерабатывала», выражаясь языкомъ желѣзнодорожнымъ, такой массы «человѣческаго матеріала», который выходилъ изъ культурной среды, стоявшей гораздо ниже этой принимавшей его школы. Эти толпы всю культуру вообще, а словесную въ частности, брали изъ школы. Изъ дому онѣ ничего не приносили. Уровень средней школы въ эту эпоху замѣтно понизился, не потому, чтобы понизился уровень преподавательскаго состава, а потому, что «перерабатываемая» имъ школьная масса черпалась изъ широкаго малокультурнаго резервуара. Въ это время вся Россія, до уѣздныхъ городовъ, большихъ селъ и казачьихъ станицъ, покрылась сѣтью гимназій и реальныхъ училищъ. Среднее образованіе и проникало въ толщу народа, и разливалось по всей странѣ. Это былъ огромной важности и, въ общемъ, здоровый и нормальный процессъ. Но по своей стремительности онъ былъ разлитіемъ полуобразованности въ странѣ. Она, эта полуобразованность, всего болѣе повинна въ порчѣ и засореніи языка.
Этотъ разливъ полуобразованности сыгралъ очень крупную роль и въ революціи 1917 и послѣдующихъ годовъ».
«Разлив полуобразованности» множил интеллигенцию. Что ж тут плохого? То, что интеллигенция есть переходное состояние между простотой и образованностью. Интеллигент есть подросток; нечто временное; не «вершина», а точка в начале пути. Вопрос о просвещении есть тот же вопрос о свободе. «Я уже большой (много знаю), а значит, могу поступать по своей воле!» – говорят дети. Так говорила и интеллигенция с тех пор, как осознала себя.
Из этого не следует, что просвещение не следовало распространять. Следует из этого только то, что устойчивость общественного корабля в условиях широко разлитого просвещения слабеет. Россия пошла ко дну, потому что интеллигенцию опьянила новая вера, так же восторженно смотрящая на катастрофы и гибель царств, как когда-то христианская, а еще потому что в решающую минуту интеллигенция успела бросить в трюм не спичку даже – охапку горящих факелов. «Классы и массы» были только обстоятельства дела. Дело же было – ускоренное разлитие просвещения при слабости культурных устоев.



