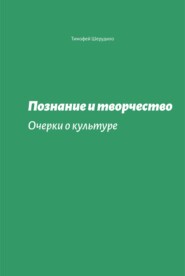 Полная версия
Полная версияПознание и творчество. Очерки о культуре
Тогда все «сложные» писатели заранее осуждены. Но что, если литература существует не для читательского удовольствия? Что, если смысл книги – не в том, чтобы доставить читателю развлечение, но в том, чтобы передать ему нечто, чего он был лишен прежде; дополнить его неполноту; приподнять хоть немного над собственным уровнем; словом, если цель литературного труда – совершенствование человека? В этом случае заповедь «кто сотворит и научит, наибольшим назовется в Царстве Небесном» относится и к писателю. Его душа (как правило, небезгрешная) в этой заповеди находит оправдание своему труду, часто неблагодарному и по видимости бесплодному…
Итак, постараемся поверить в то, что достоинство слога – в том, насколько он служит мысли, и спросим себя: каким может быть верный мысли слог? Призовем опять Сократа на помощь – он помогал нам не раз и не откажется помочь снова.
«– Есть ли хороший слог тот, который развлекает читателя, как мы о том говорили прежде?
– Нет, Сократ. Удовольствие, с которым глаза скользят по строчке, отличается от удовольствия, которое испытывает ум при виде новой для него мысли.
– Совершенно верно. Значит, достоинство слога более в том, чтобы радовать ум мыслями, чем в том, чтобы радовать глаз гладкостью строк?
– Ты странно противопоставил гладкость и мысль, Сократ. Что ты хочешь этим сказать?
– Сейчас поймете. Не кажется ли вам, что выработанная мысль стыдится гладкого выражения? И не находите ли вы, что писать легко и красиво гораздо проще, чем высказывать сильные и глубокие мысли?
– Как будто ты прав, Сократ, но мы не видим причины, которая могла бы помешать умному человеку выразить свои мысли легко, не затрудняя ими читателя. Не можешь ли объяснить поподробнее?
– Прибегнем к сравнению. Представьте себе человека, который собирал камни, чтобы построить крепкую стену; поднимал их на высоту; соединял раствором – и наконец показывает эту стену другим. Те же, желая оценить крепость постройки, пытаются оторвать друг от друга камни, а если это удается – поднять их и перенести на другое место. Как вы думаете, если человек этот был силен, а стена у него получилась крепкая – легко это будет?
– Нет, Сократ. Чтобы разобрать, или хотя бы проверить на прочность крепкую стену, построенную сильным человеком, надо также обладать силой.
– Тогда почему же мы думаем, будто сложная книга не должна затруднять читателя, чтобы он мог скользить по ней глазами, не совершая усилий?..»
Как видите, Сократ является на наши призывы охотно, даже слишком охотно: похоже на то, что за прошедшие века страсть старого эллина к диалектике не уменьшилась, а может быть, и возросла. Итак, благодаря ему мы выяснили, что жалобы на «трудный слог» при ближайшем рассмотрении оказываются жалобами на трудные мысли, т. е. на собственную непривычку к мышлению. Пресловутый «трудный слог», как правило, оборачивается неготовностью читателя – вещью, обыкновенной в литературе. Впрочем, вина есть и на писателе: сложность письма – признак не только сложности мысли, но и предельной ее сгущенности, т. е. авторского нежелания разбавлять свою мысль водой… Что делать! Хоть и нельзя сказать, чтобы сложность мысли требовала сложного изложения, но сжатости, насыщенности она требует несомненно.
Я знаю, что у читателя в запасе есть сильное возражение против наших с Сократом мнений, а именно: ссылка на Пушкина. В Пушкине часто видят пример простоты и ясности (больше того, эти простота и ясность мешают нам видеть его мысли – слишком уж легко и светло они выражены). Что у него общего с позднейшими русскими писателями: Достоевским, Бердяевым, речи которых совсем не похожи на прозрачный слог «Капитанской дочки»? Не предают ли они пушкинскую ясность ради мнимой глубины мысли?
Ошибка этого рассуждения в том, что Пушкина отождествляют с простодушным повествователем «Капитанской дочки», и напрасно. Достаточно взять его афористические высказывания, чтобы увидеть, что их отличает язык сложный и сжатый; что летописец Белогорской крепости – еще не весь Пушкин 7.
– Вы проповедуете жестокость к читателю, – слышу я внутренним слухом. – Он не молотобоец, не силач, чтобы разбирать ваши греческие стены. Он трудится в ином месте, а с книгой хотел бы развеяться, отдохнуть. Пощадите его!
Но нужно ли щадить читателя? Казалось бы, странный вопрос. Писатель работает на читателя, а заказчик, как известно, «всегда бывает прав». Поэтому писателю и говорят: «Напиши прежде такое, что всем понравится, а там уж пиши как хочешь». Но с этим никак нельзя согласиться. Применительно к простым вещам такие слова означают: «Приучи́те ребенка к сладкому, а здоровую пищу он сам полюбит».
А ведь читатель не падает с луны, не достаётся нам готовым, но воспитывается поколениями литераторов – и испортить его вкусы гораздо легче, чем улучшить, а потеряв однажды читателя, его можно потерять навсегда – или, по меньшей мере, надолго.
Поэтому не будем жаловаться на жестокость автора; не будем кормить читателя сладким и только сладким. Вспомним о том, что литература рождается без читателя и создает его трудами писательских поколений. И читатель, впрочем (если он хорош), не остается бездеятелен: он трудится трудом воспитанника, отучается от простого, учится сложному…
Как и воспитание, литература есть труд двоих.
XXI. Искусство и правда
«Этот неуклюжий, тяжелодумный век, без молодости, без веры, без надежды, без целостного знания о жизни и душе, разорванный, полный воспоминаний и предчувствий; век небывалого одиночества художника…»
В. Вейдле
Есть две истины о человеке, и обе опасны для того, кто их найдет. Каждая не терпит соперничества, каждая требует выбора и подчинения.
Первая истина выражается словами: «ни сам человек, ни его место в мире никакой загадки не представляют. Вес их измерен и найден очень легким». В человеке она видит простую машину, случайно созданную машиной побольше и посложнее: миром. Законы движения обеих машин расчислены, а если что-то еще неизвестно, то неизвестность эта временная: дайте только время, и мы не только их до конца объясним, но, пожалуй, и воспроизведем в пробирке. Мнение это нельзя назвать обоснованным – во всяком случае, в той части, какая касается человека. Как многие другие суждения о человеке, оно проходит мимо, не задевая и не объясняя самого главного; и, как все упрощенные объяснения сложных вещей, оно в определенном смысле плодотворно, то есть способствует политическим, торговым или иным внешним «успехам». Это мнение провозглашает наука; впрочем, наука (как я когда-то говорил) занимается человеком неохотно и без любопытства, при первой возможности ускользая в свою лабораторию, к неодушевленным и потому предсказуемым предметам… Именно этот взгляд в последние столетия считается достойным мыслящего человека (говорю здесь не об исключениях, которых было немало прежде и которые всё еще есть сейчас, но о людских множествах).
Художник в наши дни также находится под обаянием этой мертвящей истины. Он живет в обществе, в котором давно уже победила вера в «успех» и «здравый смысл» (можно было бы прибавить: в «демократию» и «науку», потому что для современного уха слова̀ «успех» и «наука», «успех» и «демократия» почти равнозначны). Однако рано или поздно он узнаёт, что стоит перед двумя совершенно разными путями, один из которых ведет к успеху, а другой – к правде о человеке, совсем не совпадающей с общепринятой. Хотя творчество и начинается, как правило, с простой пробы своих способностей; с погони за
сладострастьем
Высоких мыслей и стихов,
рано или поздно художника ждет встреча, после которой он не может остаться прежним.
Почти все знают стихотворение Пушкина, в котором говорится о встрече поэта с шестикрылым серафимом, и почти все особенного значения «Пророку» не придают; в нем, в лучшем случае, видят поэтическую передачу библейского рассказа. На самом деле стихотворение это говорит о встрече творца с самой большой опасностью на его пути: с Истиной. Истина эта касается художника не тогда, когда тот выходит на бой с действительностью, но гораздо раньше, когда он задается вопросом: «Кто дал мне мой дар? Кому я служу этим даром? Есть ли у моего труда иные цели, кроме умножения красоты или личного моего успеха?»
Такая встреча много сулит творцу, но обещает исключительные трудности человеку. Нет ничего по-человечески приятного во встрече с шестикрылым серафимом. Человеку жутко; человек страдает; человек спрашивает: «За что мне это?» Из этой жути, этих страданий и этих вопросов выйдет истинное творчество – не для успеха или похвал, творчество-благословение и творчество-проклятие творящего. Стремление к истине – единственный верный и гибельный путь искусства, на котором оно набирает силу и высоту, всё дальше уходя от читателя, зрителя, критика.
Что же это за истина, которую встречает искусство, и которой не видно всепроницающему, как принято думать, взгляду ученого? Выразить ее можно так: если правда о человеке в том, что он – животное, неотличимое от других животных, то быть вполне человеком, соответствовать своей истинной природе – значит быть вполне животным. Внимательный взгляд, направленный внутрь, должен встречать животные побуждения и животные мысли. Наш опыт говорит о противном: заглядывая в себя в минуты любви, торжества или муки, мы находим сложные чувства, сложные мысли, больше того: самые глубокие, сложные богатые, чуждые «животному началу» переживания мы выносим из этих минут.
Впрочем, я не утверждаю, будто художнику доступна последняя и окончательная правда. Как говорил В. Вейдле: «Та правда, с которой имеет дело искусство, вообще не высказываема иначе, как в преломлении, в иносказании, в вымысле». Но всё же он поднимается гораздо выше (или погружается гораздо глубже) той мелкой, расхожей истины о человеке, какая нужна, чтобы «приобретать друзей и оказывать влияние на людей», и находит правду, при свете которой человек уже не может быть вещью среди других вещей, которыми можно управлять и обладать. Когда колесо жизни перестает мелькать, сквозь его спицы, которые прежде сливались в сплошную пелену, он начинаем различать нечто иное. Судьба наша делается важной, большой и загадочной. Человек, освещенный искусством, выходит из ничтожества.
«Так эта истина из тех, – скажете вы, – которых не слышат уши и не могут увидеть глаза?»
«Нет, – я отвечу. – Это истина опыта и умозаключений, но опыта свободного, неповторяемого в лаборатории, и умозаключений, обращенных не только на внешнюю сторону бытия».
«Но жизни человека нужны уклад и твердость. Вы же предлагаете ему смотреть в небо и ждать появления на дальних тучах сполохов ваших невыразимых и труднонаблюдаемых истин».
Что делать! Правда – небо над нами, которое озаряет все наши поступки. Подняться в него и жить в нем мы не умеем, но, не видя сполохов на этом небе, нам не найти пути на земле…
XXII. Бремя творчества
«Творчество совсем не связано со святостью. Творчество связано с грехом. Оно, подобно платоновскому Эросу, есть дитя двух родителей – бедности и богатства; ущербности, недостатка, беспокойства, томления и – преизбытка сил, щедрости, жертвенной отдачи себя».
Бердяев
Кроме Десяти заповедей, есть еще одиннадцатая. Есть еще одна обязанность, о которой не знали в прежнее время и стали догадываться лишь недавно. Это творческий долг. «Если можешь творить – твори, – так можно высказать эту новую заповедь. – Внеси в мир больше сложного, больше ценного, больше света, чем было в нем до сих пор».
Этой заповеди нет в священных книгах христиан, однако возникла она из всех миров – только в христианском, и источник ее – евангельское «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». В чем божественное совершенство? Конечно, в творчестве; Он есть Творец с большой буквы, первый творец.
Относительно творчества может быть только два мнения. Или оно – некая побочная человеческая способность, ненужная или даже вредная для души; или творческий дар есть добродетель в ряду иных, отчасти еще язычникам известных, но добродетель особая, нередко враждующая с сестрами. Впрочем, не столь уж и особая: и добродетели воина несопряжимы с добродетелями миротворца… Мы не можем иметь всё сразу. Если так посмотреть на дело, творческий дар перестает быть мятежником среди иных, будто бы мирных дарований. Только принимайте его без условий, не требуйте сразу служения Свету: это цель всякого творчества, и оно само должно придти к этой цели, потому что, как говорил прозорливо Бердяев, «человеку нужно пройти через свободу». (Не следует, конечно, смешивать вечно плодоносящую свободу с бесплодным, убийственным «рассвобождением» нашего времени. Рассвобождение никуда не ведет и другой цели, кроме освобождения от человеческого облика, не имеет.)
Напрасно думают, будто творчество непременно связано с «публикой», успехами и вознаграждениями. Так бывает в счастливые для творцов эпохи, но это исключение, не правило. Правило в том, что творчество есть долг для всякого, кто слышал к нему призыв, для всякого призванного.
Итак, творчество не «путь к успеху», но только долг, исполнять который следует просто ради собственной души и ее блага, больше ни для чего, как бы скорбно ни было для нас отсутствие всякого отклика на наш голос, отсутствие всякого света вокруг зажженного в нас огонька. Не всем быть Пушкиными, но и не всякий Пушкин узнаёт писательское счастье, «с трудом, – т. е. с горем, по выражению Слова о полку Игореве, – смешанное». В эпохи печальные, в эпохи утренние или закатные дар остается незамеченным, а плоды его ненужными.
Одна из обычных жертв, приносимых человеком творчества, – жертва благообразием жизни, по внутренним или внешним причинам. Это опасный путь, нередко печальный. Или внешнее признание искажает пути поэта (говорю условно, имея в виду всякого творца); или невозможность такого признания заставляет отказаться от надежды на мало-мальски гармоничную жизнь и искать гармонии только в творчестве… И при этом – постоянное угрызающее чувство измены иным, общечеловеческим добродетелям. Это опасный и противоречивый путь, но всё же путь вперед, к неизвестному будущему, прочь от безопасного, но не всезнающего прошлого. На этом пути мы учимся находить полноту и счастье в самой ненужности и неполноте своей жизни…
Творческий долг острее всего переживается в пустоте. Когда за трудом следует вознаграждение, за усилием – признание, легко себя обманывать, говоря: «Нет вдохновения, нет долга, есть только низменная жажда успеха» (как обманывал себя Толстой). В пустоте вещи получают истинную цену; в пустоте видишь яснее, что никому не нужное творчество – бремя, которое мы должны поднять и нести.
XXIII. Вдохновение
Многие творцы, начиная с Сократа, говорили о демоне, который им запрещает или, напротив, повелевает поступать так или иначе. Дан. Андреев думал, что за каждым творящим на земле стоит свой демон. Киплинг сказал о писателях: «Мы только телефонные провода» 8, и прибавил: «Мой демон был со мной во время написания Книги Джунглей, Кима и обеих книг о Паке, и я прилагал большие старания для того, чтобы он меня не оставил… В присутствии демона не пытайся мыслить сознательно. Следуй течению, жди, повинуйся» 9 .
Что же имели в виду все эти люди? Современному уму чужда мысль о бестелесном существе, которое дает советы и направляет поступки; такого существа он не может вообразить – что, надо прибавить, странно, ведь ум и сам, если подумать, бестелесен и лишь загадочно связан с материей… Но времена меняются, и современные люди более склонны говорить о вдохновении, чем о демонах.
Слыша о творчестве, мы думаем о вдохновении, и не без оснований. Однако связь двух этих понятий не прямая, не обязательная и, прежде чем о ней говорить, надо ее разорвать, хотя бы в уме читателя. Спору нет, творчество может быть вдохновенным; но может основываться и на труде и усилиях; а может быть (и чаще всего бывает) сочетанием плодов вдохновения с плодами труда и усилий.
Того, в чьем деле вдохновение преобладает, мы называем поэтом, даже если он не пишет стихов. Восхищаясь этим загадочным для нас вдохновением, мы не обманываемся, но пренебрегаем оборотной стороной истинно вдохновенного творчества: трудом, трудом и трудом.
Трудом, в первую очередь, над собой. Труд над стихами (будем считать, что мы говорим о стихотворце) необходим; но еще прежде того поэту нужно образовать себя как личности. Если в начале его ведет воображение, и ведет за «сладострастьем высоких мыслей и стихов», то впоследствии «высокие мысли» берут (вернее – должны взять) верх над тем, что Пушкин условно назвал «сладострастием». Как говорил Данте: «поэзия есть прежде всего мысль».
Художник должен не просто «развить» свой ум, но воспитать его всесторонне. Вкус, мера, чувство прекрасного ему так же необходимы, как умение мыслить. Ведь вдохновение не приносит нам своего чувства красоты, но пользуется тем, какое найдет.
Думают нередко, что вдохновение есть какая-то божественная диктовка, в которой поэту отводится роль валаамовой ослицы (возговорившей, как известно, но чужими словами).
Это представление далеко от истины. То правда, что с поэтом, испытывающим вдохновение, говорит нечто такое, чего он не находит в составе своей личности, насколько мы ее можем знать. Но это еще полправды. Главное в том, что прежде, чем этот разговор станет возможным, поэт должен искусить и воспитать свой ум. Вдохновение не диктант; не «откровение»; оно не в силах сообщить нам о вещах, которых мы не знали прежде; оно может только вещи, нам известные, упорядочить новым, небывалым прежде образом. Снова скажу: вдохновение не приносит нам ничего готового, но пользуется тем, что найдет. Мы не можем научиться у вдохновения уму или красоте, но оно может воспользоваться нашим умом и чувством прекрасного, чтобы выразить неизвестную нам прежде истину об известных вещах.
Более того: вдохновение не имеет своего языка; не в том смысле, что оно немо, а в том, что оно – выше, по ту сторону, за пределами языка, и пользуется выработанным писателем языком как подручным средством. Возможный и, несомненно, часто бывающий случай: писатель, вдохновение которого больше, чем выработанная им способность выражения. В этом случае мы видим зачатки; признаки чего-то большего; не достигающий цели размах. В известном смысле именно так было с Гоголем, когда он вышел за пределы литературы, и шагнул в никуда, в узкие и совершенно неподходящие для его нового дарования формы «Переписки с друзьями».
Следует различать вдохновение-дар и вдохновение-способность. Вдохновение как дар «дышит, где хочет, и голос его слышишь, а куда уходит и откуда приходит, не знаешь». Вдохновение как способность отчасти зависит от нас, хотя и нельзя сказать: «от наших усилий». Так и хочется сказать, что связь эта обратная, и чем больше больше усилий мы прилагаем, чтобы его вызвать, тем меньшего достигаем. Больше всего ему подошло бы название пассивой или «отрицательной» способности. Почему? Потому что внутренняя жизнь художника – скорее молчание, чем речь; скорее ожидание, чем действие. Достичь источника творчества по желанию – не в наших силах. У нас есть только мелкие уловки, помогающие, но не всегда: уединение, сосредоточенность, удаление от толпы и ее игр…
Закон творчества: мы ничего не можем написать «по своей воле». Нет, Киплинг не прав, говоря «We are only telephon wires», но тем не менее: нельзя приниматься за писание только потому, что нам хочется сказать, как чеховскому герою, «Несколько слов в защиту свободы печати». Мысли должны сами придти к нам, и у нас нет силы их привлечь (кроме нескольких упомянутых выше слабых, но всё же действенных приемов вроде внутреннего молчания, сосредоточенности и уединения).
Отсюда происходит смирение поэта, малоизвестное, но свойственное всякому, кто от «сладострастья высоких мыслей и стихов», от пробы сил и игры перешел к действенному общению с вдохновением. Смирение поэта не в той добросовестной вере в собственное ничтожество, которая так нравится некоторым, но в добродушном признании собственной малости по сравнению с говорящей с ним силой. Чем больше поэт думает о такой вещи как «талант», тем он дальше от понимания Дара, который дается по произволению и который не всякий умеет принять, и хуже того – который и самому поэту дается не в каждый день его жизни, и никогда по желанию. От поэта зависит немногое, но очень важное: искусить свой ум, поострить свое перо, упражняться в понимании трудных речей, в хорошем слухе… Без этого хорошего слуха не будет настоящего творчества, но только труд и усилия, которые некоторых впечатляют, но ничего прочного (читай: стоящего в неповторимых отношениях с Богом и миром) создать не могут.
Ведь поэзия есть то, что ставит человека в неповторимые отношения с миром. Может быть два похожих стихотворца, но двух похожих поэтов не бывает. Творчество лично, даже если говорит о вещах общеизвестных и общеобязательных. Творчество сообщает нам действительность, преломленную слоем неповторимой душевной жизни. Где нет этой неповторимости – нет поэзии (помня постоянную нашу оговорку о том, что поэзия есть родовое имя для всякого искусства), но только сочетание слов.
XXIV. Что такое искусство?
«Обиды не страшась, не требуя венца».
Пушкин
На этот вопрос отвечали уже много раз, и всё равно он не потерял своего смысла, потому что относится к тем вопросам, на которые не только каждое поколение, но и каждый человек должны искать свой ответ. Конечно, вопрос «что такое искусство?» (или «что такое поэзия?», потому что поэзия – родовое понятие для всякого искусства) не стоит рядом с такими вопросами как «что такое жизнь? что такое смерть?»; отвечать на него приходится не каждому, но только тем, кто достаточно затронут культурой как областью производства ценностей.
Итак, для людей культуры этот вопрос всегда был важен, даже если не ставился ими в явном виде; на вопрос «что такое мое дело?» художник чаще всего отвечает своим делом (поэт – стихами; художник – картинами); одним словом, он живет своим трудом, а не философствует вокруг него. Бывает и так что художник своими трудами дает совершенно другой ответ на этот коренной вопрос, нежели философствованием вокруг своих трудов (так было со Львом Толстым).
Во времена, когда искусство если не умирает (как думаю я), то, по меньшей мере, находится в большой опасности, вопрос о его смысле становится вопросом о его будущем. Нужно ли оно обществу в таком виде, какой имело прежде; или победившая демократия заменит искусство чем-то другим (как заменила она «независимость» – «свободой»)?
Посмотрим бегло на искусство (держа в уме мысль, прежде всего, о поэзии как матери и прообразе всех искусств). Что о нем можно сказать с первого взгляда?
Не так давно думали, что искусство прежде всего занимается прекрасным, и обращенность к красоте – его непременная, даже отличительная черта. Искусство как дело красоты противопоставлялось науке как делу пользы. Сегодня это противопоставление стерлось; массовое производство, поставленное научным образом, снабжает народы множеством изящных, если не сказать красивых вещей. Красота стала промышленной и поставлена «на поток». Искусство больше не единственное прибежище прекрасного.
Что еще видит наш глаз в искусстве? Во-первых, оно часть более общего целого: культуры. Под культурой в наши дни понимают, в основном, накопления знаний и обычаев, но в первичном смысле (и в эпохи подъема, не упадка) культура есть, как сказано выше, область производства ценностей. Если эти ценности не производятся, в закромах культуры оказывается нечего хранить; в этой области, как и во всех других, «кто не приобретает, тот расточает».
Итак, искусство есть область производства ценностей, иначе говоря: творчества. Но в этом отношении оно не исключительно. И наука, в светлые свои времена, вносит в мир новое. Она тоже входит в царство культуры, но творчество ее совершенно рассудочно; лишено как страстей, так и совести; а в худшие времена творческая сила почти совсем оставляет ее… Впрочем, мы сейчас говорим не о науке.
Где делание, там состязание. Никто не делает чего-либо сложного и требующего усилий (тут само собой напрашивается определение: искусного) для себя самого. Искусство подразумевает публику (как бы ни было ужасно это слово): наблюдателя, читателя, зрителя, критика; в общем, некую силу, стоящую в стороне, но в то же время заинтересованную плодами творчества. Искусство, в то же время, подразумевает не-одиночество художника; ему нужен не только зритель, но и соперник. Художество без зрителя и соперника возможно, но встречается редко.



