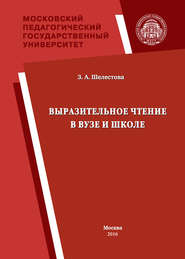 Полная версия
Полная версияВыразительное чтение в вузе и школе
Для того чтобы создать образ автора-повествователя, чтец должен стать, по выражению А. Я. Закушняка [47], «как бы вторым автором», пройти путь, по которому шел автор, создавая свое произведение, но только лишь обратный. Если писатель порою мучительно ищет слово, которое помогло бы ему как можно точнее и ярче нарисовать возникшую в его воображении картину, то чтец, наоборот, должен оживить эту картину, озвучить текст автора, перевести его из письменной формы речи в устную, используя все средства интонационной выразительности.
А. Я. Закушняк придавал литературным произведениям устность, освобождая речь от сложной конструкции литературной фразы, выбрасывая все, что могло быть восполнено жестом, мимикой, интонацией. Д. Н. Журавлев: «До сих пор я испытываю чувство неудовлетворенности от того, что не могу до конца произведения Л. Н. Толстого перевести в абсолютно живую речь» [46, с. 217]. Как видим, мастера художественного слова однозначно решали вопрос о том, к какой форме речи – устной или письменной – относится художественное, а, следовательно, и выразительное чтение.
Литературный материал предстает перед исполнителем прежде всего как языковая действительность, как организованная система знаков. Авторская интонация хотя и допускает смысловые различия, но все же в пределах, заданных языковой структурой текста. Именно поэтому мысль о бережном отношении к авторскому тексту – закон для каждого мастера художественного слова. Д. Н. Журавлев говорил: «Те, кто, как и я, пытаются переводить литературное произведение из читаемого в звучащее, слышимое, должны делать это, сохраняя первооснову, авторский подлинник. И чем ближе рассказчик к автору, тем точнее улавливает он авторский "голос"» [46, с. 217].
Чтец играет роль посредника между автором и слушателями. Стремясь передать как можно полнее и точнее интонацию, заданную автором, он в то же время делает это по-своему. К тому же, если бы можно было раз и навсегда установить модель интонации того или иного автора, его произведение перестало бы нас интересовать. Но искусство вариантно по своей природе, и произведение продолжает жить независимо от его создателя, а каждое поколение находит в истинно художественном произведении порой то, чему удивился бы сам его творец.
Н. С. Говоров считает, что искусство художественного чтения следует более точно называть «театром рассказа». Во-первых, потому, что образ автора создается сценически, по законам системы К. С. Станиславского, а во-вторых, потому, что рассказ есть всегда передача личных знаний другими людьми. Каждый рассказ помимо события, им отражаемого, включает в себя весь жизненный опыт рассказчика, выраженный в понимании им рассказываемого; включает в себя мышление рассказчика.
Ученица К. С. Станиславского М. О. Кнебель [60] вспоминает, как он давал этюды на рассказ в предлагаемых обстоятельствах. «Константин Сергеевич никогда не отделял проблемы слова в художественном чтении от словесного действия в спектакле. Он ясно видел, что в том и другом случае существует своя специфика. Но ему в первую очередь важно было подчеркнуть "общие основы словесного действия"» [34, с. 203]. Станиславский искал в художественном слове именно театр, а не одного актера и не монодраму, отмечает Н. С. Говоров.
По своей форме художественное (выразительное) чтение – репродуктивная деятельность. Казалось бы, оно имеет весьма отдаленное отношение к творчеству, в процессе которого создается что-то новое. Получается, что творческая деятельность – это прерогатива только автора. Это действительно справедливо, но только применительно к статическим видам искусства (скульптура, живопись, графика). В динамических же видах искусства, т. е. протекающих во времени (музыка, театр, художественное чтение), бывает, что продукт первичной деятельности (текст) уступает исполнительной деятельности в конкретности воплощения.
Известно, что многие писатели и поэты ревностно относятся к тому, как исполняют их произведения, и бывают поражены, когда тому или иному чтецу удается передать слушателям такие стороны их произведения, о которых они даже и не подозревали. Например, К. Симонов, услышав однажды, как Д. Орлов читает главы из его поэмы «Суворов», оказался одновременно и растроган, и рад, и недоволен собой: «Растроган я был тем… что Орлов замечательно читал мою поэму. Читал, внося в нее больше, чем в ней присутствует, раздвигая рамки ее изнутри, ощущая себя как бы старым суворовским солдатом, рассказывающим о человеке, вместе с которым он провоевал всю жизнь. Расстроен же во время этого чтения я был тем, что Орлов как бы задним числом, читая, подсказывал мне, как могла бы быть по-другому, глубже и человечнее, написана эта моя юношеская поэма» [103].
Живая реакция слушателей на чтение также оказывает неоценимую услугу чтецу: или вдохновляет его, награждая за труд, или озадачивает, отвергая неудавшуюся их ошибочную трактовку и тем самым подсказывает направление последующей «доработки» исполнителя. Учитывая особенности той или иной аудитории, чтец уточняет свои исполнительские задачи, порой в корне их меняет. Показательной в этом отношении является работа Д. Н. Журавлева над рассказом А. П. Чехова «О любви». Чтец много лет использовал один из эпизодов рассказа как легкий, не очень внимательный светский разговор красивой и счастливой женщины со случайным знакомым.
После многих концертов Журавлев понял, что неверно увидел своих героев и потому не понял смысла их разговора.
«Нет, они не стоят и не ходят, и она не равнодушна. Они сидят рядом, повернувшись друг к другу, не могут оторвать взглядов. Она вглядывается в его лицо, понимает, какое трудное время он пережил, и это больно ей – она хочет помочь, поддержать его, заставить снова почувствовать себя моложе, счастливее, сильнее. И Алехин вдруг понимает, что Анна Алексеевна единственный человек на свете, которому небезразлична его жизнь, который его понимает» [78, с. 83].
Этот пример свидетельствует о неисчерпаемости работы чтеца над произведением и о том, какую важную роль в постижении его глубины играет выразительное чтение. Чтобы оказать воздействие на слушателей, чтец должен, работая над произведением, пройти по определенному лабиринту, разгадать «загадки», рассыпанные автором по тексту, чтобы верно оценить его. Для понимания подлинного смысла произведения чтецу необходимы языковые и фоновые знания, которые связываются с понятиями горизонтального (обеспечивает понимание значений слов) и вертикального (указывает на связь текста с другими источниками) контекстов. Не менее важно чтецу проникнуть в подтекст произведения (его внутренний смысл), а также в надтекст (в то понимание, на которое рассчитывает автор) и в интертекст (предполагает высокий уровень культурного развития, в частности умение сопоставлять произведение с другими текстами, нередко включенными в образную структуру данного произведения).
1.2. Логическая, техническая и эмоционально-образная выразительность
В жизни мы, не задумываясь, пользуемся законами живой речи, которые усваиваем с детства с необходимостью выражать свои мысли. Чтецу приходится иметь дело с чужими мыслями – мыслями автора, изложенными в определенной форме, которая отражает прежде всего намерения самого писателя.
Для успешного исполнения произведения чтец должен сделать текст автора как бы своим (т. е., поняв текст, разделить с автором его мысли, оценки, чувства и передать их слушателям от своего имени). Но для этого необходимо сначала правильно понять содержание каждой фразы текста и суметь произнести его так, чтобы слушатели ясно и отчетливо поняли авторскую мысль. Сделать это не так-то просто, поэтому в театральной педагогике принято выделять логическую, техническую и эмоционально-образную выразительность.
Правильность мыслей, глубина чувств и сила убежденности говорящего – основа истинной выразительности речи. Мысль, чувство и воля проявляются в речи в единстве, но в целях овладения некоторыми элементарными умениями и навыками искусства чтения мы можем рассматривать отдельно те речевые явления, которые связаны с передачей мысли. Поскольку наука о законах мышления именуется логикой, то и явления, связанные с мышлением, а также с теорией информации и учением об актуализации высказывания, принято называть логикой речи.
Логическое чтение – это чтение, которое ясно и четко передает заключенные в тексте мысли. Оно является основным фундаментом чтения художественного (выразительного), первым шагом в освоении и передаче текста. Поэтому вполне понятно, что при отсутствии логики речи невозможно добиться и высокой художественности исполнения.
Изучением логики речи и чтения занимались почти все авторы учебных пособий по художественному (выразительному) чтению. Назовем только тех из них, которые посвятили данной проблеме специальные исследования: Л. М. Анкудович, Т. И. Запорожец, Е. Н. Зарецкая, О. М. Итина, Б. И. Моргунов, В. В. Осокин, А. Н. Петрова, Н. Н. Шевелёв и др.
Выразительное чтение в школе является эффективным средством развития у школьников выразительности устной речи. Однако сложилось мнение, что на уроках русского языка учитель должен помочь школьникам овладеть логическим чтением, а на уроках литературы – эмоционально-образной выразительностью чтения. В связи с этим складывается впечатление, что речь идет о разном понимании выразительного чтения методистами русского языка и методистами литературы.
Все дело в том, что в речи необходимо различать мысль и смысл. Мысль определяется грамматически организованным сочетанием слов, смысл определяется намерением: «одна и та же мысль может в устах разных лиц и даже одного лица приобретать различный смысл в зависимости от того, зачем, с какой целенаправленностью, в какой обстановке, с каким внутренним состоянием (чувством, настроением) она произносится» [8, с. 66].
Таким образом, на уроках русского языка выразительное чтение используется на уровне «значения» слов как средство развития речевого слуха при изучении синтаксиса и пунктуации, как прием наблюдения над интонационной стороной речи; в курсе литературы оно понимается как искусство художественного чтения в условиях школы и используется как средство анализа изучаемого произведения на уровне «смысла», эстетической функции слова в контексте.
Традиционная методика гласила: учащиеся должны находить нужный тон и уметь воспроизводить его голосом. В основе современной методики обучения чтению лежат законы «системы» Станиславского: «Надо не повторять, не заучивать интонацию, подслушанную у кого-то, а вызвать само движение души, тогда и родится соответствующая интонация» [106а, с. 69]. Следовательно, современная методика исходит из содержания речи, тогда как традиционная – из ее формы. Последняя воспитывала чисто формальную, внешнюю технологию речи, целиком оторванную от живого процесса речевого общения. «Предметом изучения являлась модель предложения, модель чувства, модель интонации, факты речи на уровне "значения"» [90, с. 72]. Причину долгого существования такого формализованного подхода А. Н. Петрова видит в неверном представлении соотношения правил языка и правил речи, в механическом перенесении логико-грамматических интонационных правил письменного текста на живую речь. Однако в свое время это соответствовало уровню научных представлений конца XIX в. о творческом процессе.
Разумеется, в обучении школьников выразительному чтению на уроках русского языка и литературы должна быть своя специфика, но научно-методические основы обучения, его принципы и на том и на другом предмете должны быть едиными. Это единство вытекает из самой природы выразительности как одного из качеств устной речи. Выразительное чтение нельзя сводить к наблюдениям только над логической или эмоционально-образной стороной текста, ибо верная интонация является результатом взаимодействия всех компонентов, составляющих выразительность чтения: и его произносительной четкости, и ясности понимания мыслей автора, и выражения своего отношения к читаемому.
Перед чтецом (будь то мастер художественного слова, учитель или ученик, нас интересует принцип) стоит задача – озвучить текст автора, перевести его из письменной формы речи в устную, использовав при этом все средства интонационной выразительности. Пока текст не озвучен, с целью его освоения чтец должен провести работу по выявлению логико-грамматической его структуры. Эмоционально-образная выразительность чтения отрабатывается непосредственно в результате озвучивания текста. Здесь в силу вступают уже законы речевого общения, исходящие из интонационно-логической структуры построения фразы в устной речи, так как «речи вне подтекста, вне смыслового, т. е. действенного содержания, не существует» [90, с. 69]. Мы ставим исполнительские задачи и тут же реализуем их в чтении, закрепляя найденное в интонации.
Живая речь образованного человека предполагает наличие дикционной четкости, орфоэпической грамотности, логической ясности и эмоционально-образной выразительности. Сочетание этих компонентов звучащей речи определяется термином «интонация». По мнению Г. В. Артоболевского, интонационная выразительность складывается из: а) логической выразительности, направленной к убедительной передаче мысли; б) образной выразительности, направленной к передаче видений; в) эмоциональной выразительности и г) стилевой выразительности, соответствующей литературному стилю текста [8]. Логической выразительности принадлежит ведущая роль. Она имеет наиболее широкий «радиус действия», так как применяется при оглашении любого текста, как художественного, так и делового.
Иногда возникает вопрос: с чего начинать работу над текстом – с видений или с логики? Практика показывает, что правомерна и та, и другая последовательность: хорошо разработанные видения могут помочь найти вернуть логику, и наоборот – хорошо продуманная логика может подсказать нужные видения. Первоначальное логическое осмысление текста происходит уже при его прочтении. При последующем чтении произведения больше внимания обращаем на логику связного текста, чем на логику отдельных фраз. Изолированная фраза – это всего лишь пример, на котором можно изучать логико-грамматические правила речи в ее письменной форме с тем, чтобы эта работа помогла исполнителю перевести текст из читаемого про себя в звучащее, слышимое.
Активная позиция говорящего определяется обычно четырьмя категориями: цель – замысел – текст – реакция. Цель – это мотивация поступка, замысел – это информация, которую говорящий хочет передать слушающему. Замысел состоит из тезиса (идеи) и аргументов в защиту этого тезиса. Текст – это конкретная речь, устная или письменная, которая поступает на слуховой и зрительный анализаторы. Реакция – это поведение слушающего в речевой коммуникации. Последовательность Ц – З – Т – Р представляет собой системное образование, в котором изменение одного из ее элементов приводит к изменению всех остальных. Речь должна быть построена таким образом, чтобы в ней чувствовался высокий уровень компетентности, полное знание предмета.
В искусстве чтения последовательность речевого воздействия исполнителя будет несколько иной: Т – З – Ц – Р (текст, замысел, цель, реакция). Чтец имеет дело с уже готовым авторским текстом, который предстоит «оживить», перевести из письменной формы речи в устную. Создавая свой текст, писатель исходит из определенного замысла, выбирает слова, строит предложения таким образом, чтобы запечатлеть увиденное в окружающей действительности и убедить изображенным читателя, донести до него свои мысли, чувства и переживания.
Задача чтеца – разгадать замысел автора, логику его мыслей, чтобы став его союзником, «соавтором», суметь достичь той же цели – убедить слушателей в правильности мыслей, идей, убеждений «сценического образа рассказчика», в облике которого он выступает, оказать воздействие на их эстетическое сознание. Следовательно, логика речи исполнителя, как и всякого говорящего, – категория замысла. Для осуществления своей цели (сверхзадачи) чтец должен на самом высоком уровне владеть системой логических доказательств, изучением которых занимается риторика как дисциплина.
Традиционная методика обучения выразительному чтению учила только средствам логической выразительности, но не самой логике речи, которая использует эти средства для углубления в содержание авторской речи, является лишь производной от мыслительной деятельности писателя.
Логика устной речи основана на законах мышления и связана с теорией информации и с различными разделами языкознания, в частности с учением об актуализации высказывания. «Произнесение текста с интонацией, правильно и активно передающей не только логику мыслей автора, но и его намерение, называют актуализацией речи» [86, с. 93]. По мнению В. В. Осокина, актуализация включает в себя три действия: 1) актуальное членение; 2) ритмико-интонационное членение; 3) смысловое выделение соответствующих слов с помощью логических ударений: на базе одного и того же предложения могут возникать разные высказывания, соответствующие то одному, то другому намерению говорящего: «Я люблю твои сказки», «Я люблю твои сказки», «Я люблю твои сказки». И т. д.
При чтении текста нужно искать и находить такие варианты интонации, которые запрограммированы в нем автором. В качестве средств ритмико-интонационной организации звучащей речи выступают: логические паузы, логические ударения, логическая мелодия и логическая перспектива. Умение говорить и читать с учетом ритмико-интонационного членения текста делает речь стройной по форме, понятной по содержанию. Разметка текста по фразам и тактам помогает чтецу глубже вникнуть в смысл каждой фразы и выявить оттенки авторского эмоционального отношения. Основным средством актуализации устной речи является интонация. В трактовке понятия «интонация» (от лат. intono – громко, вслух произношу) нет единства. Наиболее распространенным является понимание интонации как сложного звукового средства, включающего в себя: 1) изменение тона голоса по высоте, т. е. его мелодическое повышение или понижение; 2) изменение темпа речи, т. е. его замедление или ускорение; 3) логические, психологические и межстиховые паузы; 4) тембральные изменения, происходящие с изменением эмоционального состояния говорящего [32].
Однако если звучащий текст представляет собой озвученный вариант письменного текста, отмечает Г. Н. Иванова-Лукьянова [52], то его ритмико-интонационные характеристики отражают не только лексико-грамматические, стилистические и экспрессивно-модальные знания, заложенные в письменной форме данного текста, но и дополнительные знания, привнесенные в звучащий текст говорящим. Автор, предлагая различать интонацию языка и интонацию речи, считает, что интонационные конструкции Е. А. Брызгуновой [22] помогают записать звучащий текст в интонационной транскрипции. «Однако живая речь дает такое разнообразие интонационных контуров, что семи ИК оказывается недостаточно, и исследователи звучащей речи пользуются различными переходными конструкциями, обозначая их: 2–3, 3–2, 4–1 и т. д. Но и этого оказывается недостаточно» [52, с. 10]. Г. Н. Иванова-Лукьянова советует применять два вида интонационных транскрипций: одну – для обозначения интонаций языка и другую – для обозначения интонации речи.
А. Н. Петрова считает проблему интонации узловым вопросом современного театра и театральной педагогики: «Интонация, как и логика, лежит на стыке двух функций языка. В интонации отражаются различные языковые явления, в том числе и нелингвистические, к которым относится "вся область экспрессивной интонации"» [90, с. 101]. По меткому выражению Н. И. Жинкина: «Интонация – это действительность» [45б]. Вне интонации нельзя произнести ни звука, ни слова, ни предложения, через интонацию выявляется смысл речи, ее подтекст.
К. С. Станиславский понимал интонацию как воплощение действия. Слова и интонация, говорил он актерам на репетиции, являются результатом ваших мыслей, ваших действий. Работа над интонацией, по его мнению, не в том, чтобы придумать ее: «Она является сама собой, если существует то, что она должна выражать, т. е. чувство, мысль, внутреннюю сущность, если есть чем ее можно передать, т. е. слово, речь… звук голоса, хорошая дикция» [108, с. 329]. Исходя из концепции К. С. Станиславского, А. Н. Петрова приходит к выводу, что интонационный рисунок предложения не совпадает с интонационным рисунком фразы: «Интонация изолированного предложения определяется его конструкцией, а интонация фразы в речи – ее подтекстом» [90, с. 105].
В своей речи мы свободно пользуемся интонацией, не думая о ней, так как говорим о том, что нас волнует, чего мы хотим добиться. «При чтении же вслух мы вынуждены сознательно работать над интонационной формой, воплощая авторское намерение в интонационную форму» [86, с. 106].
Раздельность речи – первое условие ее понятности. Логически грамотная речь членится на отдельные «отрезки», разделенные остановками, паузами, которые помогают воспринимать мысль по частям, улавливать ее строение. Такие части мысли во фразе или в предложении, состоящие из слов, тесно связанных по смыслу, называются речевыми звеньями, или речевыми тактами. Паузы, отделяющие фразу от фразы или звено от звена, называются логическими паузами.
Паузы расчленяют речь сообразно смыслу и грамматическим связям между словами, а также под влиянием «различных психологических моментов и психофизических состояний говорящего; в стихотворной речи – также и сообразно ее ритмическому строению» [8, с. 9]. Таким образом, различают паузы не только логические, но и психологические, мотивированные переживаниями говорящего; физиологические, вызываемые его физическим состоянием; межстиховые – цезурные и (в дольниках) ритмические, т. е. паузы, мотивированные строением стиха.
Логические паузы организуют речь, сообщают ей ясность и четкость, помогают глубже вникнуть в ее смысл. Они соединяют в одно целое объединенные смыслом группы слов и в то же время отделяют их друг от друга. К. С. Станиславский говорил, что от расстановки логических пауз может зависеть судьба и сама жизнь человека. Например: «Простить нельзя сослать в Сибирь». Как понять такой приказ, пока фраза не разделена логическими паузами? Расставьте их и только после этого станет ясен истинный смысл слов. «Простить/ – нельзя сослать в Сибирь!» или «Простить нельзя/ – сослать в Сибирь!» В первом случае – помилование, во втором – ссылка [108, с. 96].
Паузы мы различаем по их длительности. Длительность пауз находится в непосредственной связи со степенью завершенности мысли. Пока мысль развивается, еще не завершена, паузы требуются более короткие, так как части одной мысли тесно связаны между собой. Когда мысль закончена, пауза должна быть более длительной, чтобы отделить эту законченную мысль от другой мысли. Длительность пауз связана также с протяженностью, величиной речевого звена. Если оно состоит из одного слова, мы делаем более короткую остановку, чем после такого же по важности речевого звена, состоящего из нескольких слов. Например: «После чая/он, мрачный, сидел у окна/и смотрел на Волгу.///А Волга уже была без блеска,//тусклая,/матовая,/холодная на вид». (А. П. Чехов). Продолжительность пауз зависит и от темпа речи. Если мы говорим медленно, то все паузы несколько увеличиваются, если же быстро, то укорачиваются.
К. С. Станиславский советовал брать почаще книгу, карандаш, читать и размечать прочитанное по речевым тактам. Разметка речевых тактов и чтение по ним необходимы потому, что они заставляют анализировать фразы и вникать в их сущность. Не вникнув в нее, не скажешь правильно фразы. «Привычка говорить по тактам сделает вашу речь не только стройной по форме, понятной по передаче, но и глубокой по содержанию, так как заставит вас постоянно думать о сущности того, что вы говорите на сцене» [108, с. 125].
Попробуем разделить следующее предложение на речевые такты: «Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия» (А. Пушкин. «Метель»). В этом предложении отсутствуют знаки препинания, однако паузы в нем есть. Попробуем расставить их так: «Марья Гавриловна/кто?//закрыла книгу/что сделала?//и потупила глаза// что еще сделала?//в знак согласия/почему?/». Внутри предложения образовались группы слов, потому что прежде всего предложение делится на группу подлежащего и группу сказуемого; обстоятельственные слова тоже составляют отдельные группы. В этом предложении группу подлежащего составляют слова «Марья Гавриловна», группу сказуемого – «закрыла книгу»; есть группа второго сказуемого – «и потупила глаза»; обстоятельственные слова «в знак согласия» составляют тоже отдельную группу.
Но как узнать, где и какие паузы нужно ставить? На помощь приходят правила расстановки логических пауз, основанные на законах грамматики и наблюдениях за звучанием обычной разговорной речи. Грамматические знаки препинания лежат в основе логического членения речи, так как в той или иной мере они выражают смысловые связи, существующие между словами. Однако грамматика помогает нам наметить лишь речевые звенья, но точно определить их границы позволяет только анализ текста по мысли, который при наличии связного текста, а не одного изолированного предложения всегда предполагает учет контекста.

