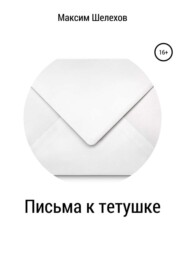 Полная версия
Полная версияПисьма к тетушке
С чего начать? Тетушка, я уже полчаса сижу над чистым листом и никак не найду той исходной точки, с которой могла бы оттолкнуться в своем повествовании… Шесть недель – это много или мало в моем случае? Что было шесть недель тому назад? Я была с Костей, мне казалось, он мне нравится, мне казалось, я влюблена в него. Но как же я заблуждалась! Я не знала, я не могла знать тогда настоящей любви, мне не с чем было сравнить. Если то, что я испытывала к Косте, называется любовью, то, как назвать сегодняшнее мое чувство? Мучение?..
Нет, я не любила Костю. Я была очарована, это правда, но не им, а ситуацией. Я считала его писателем, а себя героиней романа. Мне так неловко сейчас! Порою, я чувствую себя обманутой, и в те минуты мне как будто легче, я тогда способна презирать Костю, как мне кажется, имея на то основания. Порою мне его жаль, и тогда ко всем прочим тяжелым и волнительным чувствам примешивается еще и чувство вины, и я надрываюсь. Тетушка! Нельзя выдержать столько переживаний. Я не хочу, я не могу, я не готова кому-то еще сейчас сочувствовать, мне слишком жаль самое себя… И почему, почему он не хочет оставить меня в покое, зачем он так навязчив! Он будто нарочно делает все, чтобы отвратить меня от себя, убить во мне к нему последнюю приязнь. Вчера пришел со слезами на глазах и с наперед заготовленной ахинеей, вздором. Он поступает подло, низко, когда, прикрываясь какою-то безумною теорией и делая из нее нелепейшие совершенно выводы, надеется умалить и опорочить мое чувство, мою подлинную любовь к Евгению.
Евгений – какое прекрасное имя.
Я устала себя обманывать, я, наконец, готова сознаться, что влюбилась в Женю с первого взгляда, там, в «Подвале»; я любила его, когда была еще с Костей, и потому отчасти считаю себя предательницей. Но что я могла сделать с собой! Я себя одергивала, наущала, но только мне приходилось увидеть его, хотя бы мельком, как все внутри меня переворачивалось, и я уже не могла не думать о нем, несмотря на все предостережения и собственные же запреты.
Когда Костя отзывался о Жене нехорошо, я внутренне бунтовала. Он продолжает делать это и теперь и тем меня бесит. Как он не поймет, что даже если бы Женя, в самом деле, оказался первейшим в мире подлецом, и это было мне доказано математически, как теорема, я бы не стала любить его меньше. Но я не хочу Косте верить и не хочу его слушать, в нем говорит ревность, ревность и немощность. Он сам чувствует Женино превосходство, во всем. Он жалкая тень, он призрак. Он мне надоел, не собираюсь больше его жалеть.
Подумать тошно, сколько потворства и хождений было вокруг да около! Он меня измучил, этот Костя, вытряс всю душу. Он, чуткий, внимательный, все он понял сразу, но как тот утопающий, продолжал надеяться на соломинку. Как глупо, неблагородно было с его стороны. И? Чего достиг? Во что вылилось?..
Он пришел ко мне с новым проектом: покормить на площади голубей. Занятие увлекательнейшее, нечего сказать! Еще и в такую погоду (срывался первый снег). Предложил посетить филармонию. Но орган меня утомил. Он возразил, что играют Рахманинова, фортепиано. Тем более, скука! «Рахманинов – скука?» – переспросил он. Я теряла последнее терпение, Костя это заметил. «Бог с нею, с филармонией, но что ты хочешь?» – поинтересовался он вкрадчивым голосом. «Хочу хотя день от тебя отдыха», – подумала я про себя, но, конечно, не могла произнести такое вслух. Я и догадывалась, что разговор будет тяжелым, но не представляла, что настолько. Так это еще главного сказано не было.
Главное было в том, что я уже имела приглашение на этот вечер, и поступило оно от Евгения. Мы встретились с ним утром, случайно. Опять случайно. Три дня подряд. Это было какое-то наваждение! Я ходила больная. У меня так билось сердце. Я не могла понять, что со мной происходит. В этот, в последний раз дошло дело до кофе – Женя меня пригласил прогулять с ним первую пару. «Похоже, у нас пересекаются маршруты», – уже в кофейне заметил он. Я не находила, что сказать, в его присутствии я совершенно теряюсь. Он смотрел на меня пристально, словно испытывал, спросил: «Ты меня преследуешь?» От этих его слов я вся залилась краской, но была нема, как рыба, словно воды в рот набрала. «Шутка!» – объяснил Женя. Я чувствовала себя очень глупо, оттого, что не нашлась вовремя улыбнуться, и улыбалась теперь, как мне казалось, совершенно некстати. Он продолжал засыпать меня различными вопросами, совершенно запросто, будто не замечая вовсе моей неловкости, держал себя, как и всегда, очень уверенно, вел речь свою напористо. Я и робела и смущалась и мучилась, но, чтобы избавить себя тяжелой компании – ни мысли, ни желания у меня не было. Я наслаждалась Жениным присутствием, находя удовольствие даже в собственном замешательстве. Это я сейчас способна на такие рассуждения, тогда же своих чувств я не понимала. Уже прощаясь, он пригласил меня на рок-концерт известных каверщиков (это те, кто исполняют чужие песни), и, видя, что я вконец растерялась, добавил, что ждет меня в сопровождении моего молодого человека, что само собой разумелось, на его взгляд. Я же, со своей стороны, зная Костино к Жене нерасположение, и напротив, чувствуя свою к нему такую откровенную симпатию, совершенно не представляла, как это все будет выглядеть. Честно говоря, я надеялась, улизнуть на концерт как-нибудь от Кости тайком; о том же, чтобы, ради его спокойствия и сохранения наших с ним отношений, неглижировать поступившим мне приглашением, признаюсь – о том я даже не помышляла.
Но – Костя на дежурстве. Гестапо. Сил больше не было, опротивело юлить, я ему прямо сказала, что не хочу в филармонию, хочу на Нирвану. Он рот открыл от изумления, посмотрел на меня, как на умалишенную, затем объяснять принялся, как дурочке, аккуратно, вкрадчиво, кроме того, что группа эта заграничная, и то, что солист их… Я ему в глаза рассмеялась. «Кавер-концерт сегодня будет, – сказала ему, – будут Нирвану играть. Меня Женя пригласил… нас пригласил – поправилась я. – Но ты же все равно не захочешь пойти». Костя казался пораженным. «Если ты захочешь, чтобы я не захотел, я не захочу», – чуть не задыхаясь, выдавил из себя он. Изувер! Что я ему могла на это ответить! Тем более вид был у него такой подавленный. Пришлось желать его компании, против чаяния. Так еще жеманился!..
Понятно, что на концерт он «захотел» пойти только из ревности, не затем, конечно, чтобы столько унизить себя, чтобы ускорить разрыв между мной и им, что получилось в результате. И все же, неудовольствие свое он начал выказывать еще по пути; так и висело в воздухе напряжение, так и предчувствовалось, что что-то должно произойти в этот вечер, что-то решительное.
Концерт проходил в «Орешке» – это название бара. Мы пришли и узнали на входе, что за нас уплачено, эта новость крайне раздосадовала Костю. Он, во что бы то ни стало, пожелал заплатить за себя сам, как и за меня, за свою спутницу. Контролер его пытался урезонить, говоря, что двойную плату за вход ему вносить, по меньшей мере, бессмысленно, предлагал ему угостить лучше пивом своего друга, который за него заплатил. Костя и здесь пожелал сообщить, что заплативший за него человек, ему не друг, и таки всунул деньги контролеру. Тот только пожал плечами, и мы вошли.
«Орешек» мне представился каким-то полуподвальным помещением, хотя и располагался он во втором этаже торгово-развлекательного-центра. Свет внутри исходил из настенных бра, очень тускло, обвивался, путался табачным дымом, рассеивался полусумраком. Пол, стены, потолок – все было оббито досками, что создавало впечатление, будто оказались мы в каюте какой-то шхуны, разве что необыкновенно просторной и укомплектованной сценой и распивочной стойкой. За стойкой, как говорится, яблоку негде было упасть. Сцена пока была пустой, не считая пары гитар и барабана, ожидавших музыкантов. Последние, по всей вероятности, пребывали за занавесью, которая служила ширмой, потому как была за сценой, была черного цвета, казалась запыленной, грязной. Столы были расставлены по периметру. Это были перевернутые вверх дном большие деревянные бочки, на них, как и на распивочной стойке, помимо грубых пивных бокалов, значилась обязательная порция арахиса, очищать который следовало прямо на пол, чему свидетельствовало обилие кожуры под ногами. (Отсюда название – «Орешек», или из названия произошла эта традиция, не знаю.) Так и приходилось ожидать, что из-под слоя кожуры или из щели в деревянном полу вылезет наглая мышь или жирная и страшная крыса. Из публики, собравшейся в «Орешке», я узнала некоторых, кого не так давно наблюдала в «Подвале». Тут был и тот мальчик с козьей бородкой, заплетенной в косичку, промелькнуло также лицо Виолы, моей недавней соперницы, которую я теперь не могла отыскать глазами, и чудаковатый бармен из «Подвала», здесь, находясь как бы «по другую сторону баррикад», заливал в себя пиво с великим усердием, будто желая кому-то и за что-то отыграться. Но присутствовали также и субъекты иного сорта. Они резко выделялись на общем фоне, не чем иным, как своим естественным безобразием. Представлялись эти последние не пойми во что одетою, месяц не купаною оголтелой сворой, не имеющей ни малейшего представления о наипростейших правилах приличия и обыкновенной морали.
Наконец, я обнаружила Женю, обратила на нас его внимание, помахав рукой. Он откликнулся не сразу, был занят разговором. Мы подождали. Спустя пару минут с присущей ему непринужденностью он удовольствовался нашим присутствием и, обращаясь ко мне преимущественно, поинтересовался, как нам здесь, в «орешке», нравится? Я желала пропустить этот вопрос мимо ушей, но его долгий и внимательный взгляд требовал обратных слов.
– Мрачновато, – ответила я лаконично, сокрыв еще несколько нелестных эпитетов, так и напрашивавшихся в комментарий. Впрочем, мое лицо, конечно, выразило недосказанное. Женя, к большому облегчению моему, не смутился нисколько полученным ответом, напротив, дал понять, что ожидал гораздо худшей реакции.
– Если бы вам пришлось по вкусу это место, прямо так, с первого же шага, я бы подумал: «С этими людьми что-то не так, их нужно бояться», – улыбаясь одними глазами, произнес он. – Обыкновенный его прием, заставляющий сомневаться в серьезности высказывания и в то же время не позволяющий с полным правом принять его слова за шутку. Так и подразумевает в тебе своим взглядом идиота, – добавил бы сейчас Костя, но Костя завистлив и невежественен, с его мнением безрассудно считаться.
Мы разместились за одной из бочек. Нам тоже подали пиво. Женя отпил глоток. Я последовала его примеру. Появились на сцене музыканты, им зааплодировали, заиграла музыка.
Откровенно говоря, кроме песни, которую я вам некогда представляла, как столько знаменитую, что даже наш Николай Антонович обязан был ее слышать, кроме той песни я не знала других песен этой группы. Бог весть как оно должно было быть у Нирваны, но здесь мне что-то не очень сразу понравилось. Звучало как-то немелодично. Тщедушный мальчуган, с растрепанными, крашеными волосами, в подранных штанах и затертой джинсовой куртке неистово горланил в микрофон, будто с задачей перекричать собственную гитару, надрывавшуюся, к слову, наравне с ним. Рядом лысый барабанщик с сережками в ушах и нетрезвого вида бас-гитарист, старательно шумя, ему аккомпанировали. При этом мальчуган все показывал звукорежиссеру различными жестами, что нужно сделать его голос еще выше, при этом еще отчаяннее налегал на свой инструмент, так что, в конце концов, порвал струну. Образовался неумышленный антракт таким образом. Женя повернулся к столу. На удивление его вид отображал удовлетворение происходящим. «Какая мощь, какая энергия! – сказал он. – Эти парни знают толк в настоящей музыке». Произнесено это было так настойчиво и столь убежденно, что я тут же почувствовала неловкость за свое невежество, за незнание и непонимание настоящей музыки. Мое смущение было очевидным. Женя посмотрел на меня со снисходительной улыбкой, как на малое, несмышленое дитя, не развитое, не знающее жизни.
– Музыку в стиле гранж, – сказал он, – можно сравнить с сигаретой. Когда буквально выворачивает тебя в момент знакомства, но, оглянуться не успеешь, как возникнет зависимость… – Ах, тетушка, нельзя иметь столько ума, скольким наделен Евгений. Как искрометна, как красочна его речь, как богата на живые и ясные образы, какие точные он приводит сравнения. Как жаль, что я не обладаю феноменальной памятью, способной воссоздать услышанное слово в слово! Я бы желала объяснить вам историю происхождения гранжа, рассказать о его становлении и развитии, о прорыве гранжа в мейстрим… Мейстрим, к слову, это то, что на виду, тетушка, то, что модно, это знать важно! Речь Жени буквально пестрит подобными словами, такими от которых мы с вами, дорогая моя, на расстоянии семи морей находимся, за Кудыкиной горой, в нашем Покровске, о которых не имеется понятия и приблизительного. Какая трагедия в том, что мы с вами такие непросвещенные! Не знаю, как вы, душенька, но я намерена меняться. И я уже меняюсь… Но речь пока не о том. Я хотела вам прежде всего рассказать о гранже… Хотела, но чувствую, что неспособна. Это такая материя… «Это больше, чем музыка, это образ жизни!» – по словам Жени. Знаете, где зародился гранж? В Америке. Все самое лучшее, самое прекрасное оттуда! Курт Кобейн оттуда. Курт Кобейн, тетушка, это солист той группы на кавер-концерте которой мы присутствовали, тот, который убил себя из ружья в порыве меланхолии. Ах, надо знать, что это был за человек! Говорят о нем, что еще в утробе матери он был чуть-чуть не удушен пуповиной, что еще оттуда начались его страдания. Он страшно страдал, тетушка, страдал душевно и физически, у него нестерпимо болел живот и потому он ел наркотики, то есть не ел, а пил, то есть колол, если уж докапываться истины. Но все это вовсе не имеет значения. Имеет значение то, что еще при жизни он стал кумиром, стал иконой, стал примером и предметом подражания. Это был новый герой, совершенно отличный от всех типичных героев. Он не считал нужным мыться, никогда не причесывался, одевался как попало и во что придется, на концертах бил гитару о сцену и о свою голову, в общем, как вы и сами можете заключить, милая тетушка, личностью он был в высшей степени незаурядною. Ум в нем заходил за разум, песни его не совсем лишены были смысла, а случайные его фразы налету подхватывались журналистами, переводились на все языки мира и заучивались поклонниками наизусть. «Nobody dies a virgin, life fucks us all. Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет», – эту цитату я, конечно, не могла так сходу запомнить, она впоследствии не раз мне повторялась Женей, как любимейший из афоризмов Курта. У Жени такой утонченный вкус!
– «Nobody dies a virgin, life fucks us all». Какая, глубина, какой полет мысли! – восторгался он тогда, в «Орешке».
– Против воли остается в памяти, – счел нужным тогда вставить Костя, по обыкновению своему крайне неуместно и глупо. Женя посмотрел перед собой с удивлением, как будто с ним заговорил фонарный столб. Улыбнулся одними глазами, перевел взгляд на меня и продолжал свою речь, как ни в чем не бывало, будто отмахнувшись от докучавшей ему мухи. Я позавидовала его хладнокровию, еще раз убедившись, насколько выше он того, кого я вынуждена была называть «своим молодым человеком». В ту же секунду я решила, что не позволю себе уснуть этой ночью, пока мои отношения с Костей будут считаться существующими.
К этому времени мальчишка уже настроил свою гитару, с новой, натянутой им струной, и под шум аплодисментов, одобрительных возгласов, и неподдающихся описанию звуков, исходящих от представителей «оголтелой своры», что-то орал со сцены так истерически, будто его ножовкой резали. Женя обратил туда мое внимание, с просьбой прислушаться. Я, честно, сделала все от меня зависящее, но разобрать что-либо в этом душераздирающем крике оказалась не способной.
– Pain! – подсказал Женя, – что означает боль. Боль и наркотики, наркотики и душевная боль – вот его жизнь, жизнь Курта Кобейна!..
В этом месте Женя, замолчав на некоторое время, посмотрел на меня долго и исключительно, будто моего «молодого человека» вовсе не было рядом, будто я была одна, наедине с ним. Мне понравился этот вызов, и я приняла его, я согласилась, подтвердила взглядом, что тот третий, кто был с нами – был лишний.
Он вынул из кармана сигареты, достал из пачки одну, поднес неспешно к губам, подкурил. Целое искусство увидела я в том, как он выпускал изо рта табачный дым, как он держал сигарету. «Если бы я уже не любила его, я бы влюбилась в него сейчас», – не могла не признаться я самой себе в ту минуту.
– В сигарете есть что-то колдовское, магнетическое, сам процесс завораживает, когда сигарета в руках правильного курильщика. – Произнес он, и я подумала: «Это же мои собственные мысли!»
– Абсолютно каждый и все пробовали курить, – продолжал Женя. – Но не все отхаркивают никотин, как видишь. Есть правильные курильщики и есть обыкновенные потребители, опошлившие сам процесс курения, не умеющие из него извлечь удовольствие, ни обнаружить красоту, одно животное желание удовлетворить своей потребности руководит этими невеждами. Все то же с Гранжем. Разве только папуас какой-нибудь и то исключительный не знает Курта Кобейна, не слышал его «Smells Like Teen Spirit». Все причастны к Гранжу, так, или иначе. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Из прочих выделяются две группы. Есть ценители этого направления в музыке, и есть пропащие маргиналы, и одних и других ты сейчас можешь наблюдать в этом баре. Кто-то, как мы, пришли окунуться, в ту атмосферу, в которой создавалась эта музыка, повлиявшая на моду, на культуру, на взгляды современного человека, за годы эволюционировавшая и вобравшая в себя эстетические и симпатические черты – кто-то пришел запечатлеть и прочувствовать, с чего вся эта «прелесть» начиналась. Кто-то же, напичканный наркотиками сумасброд, явился в «отчий дом» за страданиями. Каждому свое. Потому-то я и сказал при встрече, что если бы вам понравилось это место с первого же взгляда и вы почувствовали себя здесь, в «Орешке», вполне в своей тарелке, я бы счел не лишним вас остерегаться.
Я смотрела на Женю с восхищением.
– Какой ты умный! – не утерпела я произнести, – как ты все это прекрасно подвел и объяснил!
Костя, во все это время не удосужившийся отпить и глотка, по той, конечно, причине, что пиво было заказано не им, а Женей, после этих моих слов, отбросив все принципы, опустошил свой бокал чуть ни залпом. Мне было крайне неприятно обнаружить в нем столько прыти. Кроме того меня изначально еще раздражала его негативная настроенность. Я смотрела на него чуть не с ненавистью и в первый удобный момент готовилась вспыхнуть. Женя, поочередно обращая свой взгляд то на меня, то на Костю, улыбался уже не одними только глазами, что крайне смущало и щекотало нервы мои еще более. Очень вовремя со словами приветствия подоспела Виола. Она звала нас «зарядиться, как следует» за барной стойкой, с тем, чтобы впоследствии «хорошенько оторваться». Другими словам, она приглашала нас выпить и потанцевать. Мы с Женей согласились охотно, Костя поплелся за нами.
За стойкой провела я время очень весело, Виола обращалась со мною как со старинной приятельницей, Женя был внимателен и любезен, Костя пребывал в абсолютной тени, много пил и казался чрезвычайно угрюмым – благо, что не мешал. Спустя короткое время голова моя приятно закружилась, и, к удивлению собственному, в шуме, извергающемся со сцены, до того, казалось, беспорядочном, я вдруг заметила гармонию. «Оголтелая свора», всем своим составом толпящаяся и скачущая там же у сцены, меня тоже больше не пугала и не казалась такой уж безобразною.
– Какая-то неведомая сила так и влечет меня туда к ним! – произнесла я, как-то извиняясь, и вместе с восторгом.
– Это Терпсихора, – предлагая мне руку, сказал поэтически настроенный Женя.
– Быть может, это Вакх? – не пропустил случая съязвить злючка Костя, также протягивая руку, подразумевая этим жестом, чтобы я с ним осталась. Безо всякого колебания я откликнулась на предложение Жени, и мы с ним вместе, также и в компании Виолы пошли «отрываться».
Не стану вам описывать, как я повеселилась, дабы не умалить словами наш «отрыв». Было «круто, нереально круто», по оригинальному выражению харизматической Виолы, но – до поры, до времени, пока в самый разгар веселья к нам не присоединился «свет моих очей». Это я сейчас способна иронизировать и даже кое на что улыбнуться, глядя назад, как говорится, сквозь призму времени. Тогда же мне было не до смеха и не до шуток. Костя шокировал меня своим поведением. Понятно, он напился, но это не может послужить ему оправданием, напротив, обнаруживает в нем еще один недостаток. Ему нельзя пить, ни в коем случае нельзя пить! Как говорится где-то у Достоевского: «в пьяном виде он не хорош», – я ему так впоследствии и сказала. Я ему достаточно высказала, уже на другой день, когда он был способен слушать.
Он явился на крыльцо общежития уже около полудня (проспавшись), попросил спуститься к нему. У меня не было большого желания удовлетворить его просьбе, но существовало теперь одно обстоятельство… И хотя я убеждала себя, что после вчерашней своей «феерии» Костя не может быть на меня в претензии, что разрыв между мной и им произошел сам собою еще до того, как… Все же, чувствовала я, что совесть моя была не совсем чиста и кошки скребли. В общем, объяснение мне и самой требовалось, дабы сбросить с души камень.
Первое время я старалась не смотреть Косте в глаза, что, наверное, навело его на мысль, будто я не могу преодолеть своего к нему отвращения, отчего вид его стал вдвойне жалким. Впрочем, он был не так далек от истины, большой симпатии я к нему уж точно тогда не испытывала. Конечно, он ждал от меня шквала возмущений или чего-то в этом роде, готовился оправдываться. Теперь, казалось, не знал, что ему делать. Мы молча спустились с крыльца, и пошли по уже успевшей просохнуть аллейке. Было безветренно, солнечно, от первого снега почти не оставалось следа, в воздухе пахло свежестью. Такая прогулка могла принести даже и удовольствие, при других обстоятельствах, разумеется. Костя пару раз было пытался заговорить, но путался и сбивался чуть не на первом слове. Я принудила себя ему помочь.
– Что же это ты вчера устроил? – произнесла я без лишней патетики, совершенно спокойно. Костя посмотрел на меня страдальчески и с очевидным вопросом. Я поняла, что он ничего не помнит.
– Ничего? – удостоверилась я.
– Почти ничего, – кающимся голосом произнес он. Его беспамятство почему-то вдруг меня страшно развеселило.
– Как разбил три бокала, не помнишь? – сквозь смех спросила я. Он отрицательно покачал головой.
– Два разбил, спросил: «сколько?», заплатил вдвое больше, сказал: «на будущее», слово с делом у тебя не расходится, вскоре разбил и третий.
Костя понурил голову.
– А как паренька из «Подвала» за бороденку таскал, тоже не помнишь? Ворвался на танцплощадку с правами на меня, дескать, моя девушка, всем расступиться! И давай подле скакать. Зацепил как-то несчастного, козлика этого, толи рукой по голове, толи еще как, кажется, не единожды, тот тебе замечание сделал. Ты его, не долго думая, за бороденку и на воздух, на свежий. Шуму наделал! Как тебя только обратно впустили, ума не приложу? – Я посмотрела вопросительно, Костя пожал плечами, выражая неизвестность. Я решила добить его какой-нибудь выдумкой.
– Как затем забрался на сцену, оттеснил вокалиста, затянул: «Во саду ли, в огороде…» – не помнишь?
Его глаза неестественно округлились, изобразив настоящий ужас. В этот момент я вспомнила, какой разговор предстоит впереди, и настроение мое резко переменилось.
– Этого не было, я шучу, – сказала я ему изменившимся голосом совершенно серьезно, – но в любом случае, Костя, твое вчерашнее поведение не подлежит никакой критике.
Он было начал извиняться, я его пресекла, сказав «незачем», сказав, что он волен вести себя, как ему угодно, что меня это теперь не касается. Костя вздрогнул даже от прозвучавшего «теперь», но все же пожелал, по-видимому, пропустить мимо ушей такую откровенную для себя неприятность.
– Я тебе слишком надоел вчера? – спросил он.
– Я от тебя убежала.
– Как же ты в общежитие добиралась по ночи?
Я приготовила Костю взглядом, должным призвать его к особенному вниманию. Он и без того, впрочем, имел вид подсудимого, наперед знавшего приговор, но втайне все еще мечтавшего ошибиться.
– Меня Женя проводил, – произнесла я, прибавив интонацией своим словам дополнительного значения. Несмотря на то, что мой ответ не должен был стать для него большой неожиданностью, Костя казался разбитым. Прибегнуть к утешению в сложившейся ситуации было бы жестоко и невозможно с моей стороны.
– Ты теперь с ним? – выдавил он из себя.
Мне хотелось ответить утвердительно, но с болью в груди я чувствовала, что не имею достаточных оснований для этого. Костя, со свойственной ему чуткостью, тут же заметил во мне нерешительность и угадал причину моих колебаний.

