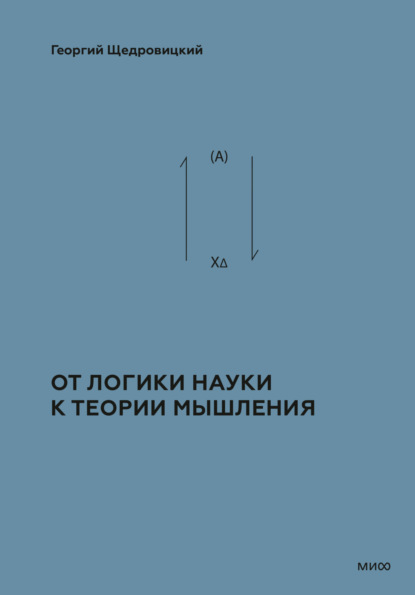
Полная версия:
Теоретико-мыслительный подход. Книга 1: От логики науки к теории мышления
Так, у адыгейцев в период, когда средством гужевого транспорта служили только арба с дышлом и ярмом для волов, названием ей служило слово «ку». Это слово несло на себе двойную функцию: оно обозначало свойство «быть транспортом» и сам предмет в целом – «воловью арбу», так как воловья арба была единственным средством транспорта и ее особенные свойства еще не были противоположны ее общим свойствам. В дальнейшем, с появлением новых видов транспорта, происходит, во-первых, перенос названия по общему свойству и, во-вторых, расчленение названий. Свойство быть транспортом отделяется от конкретных предметов и носителей этого свойства и получает в слове самостоятельное существование.
Появляется слово «цу-ку» (воловья арба), «шы-ку» (лошадиная арба) и, наконец, «мэшIо-ку» (огневая арба – имеется в виду поезд). Слово «ку», обозначавшее раньше свойство быть транспортом и конкретное представление воловьей арбы, получает теперь исключительно абстрактное содержание.
В период, когда из злаков у одного из адыгейских племен выращивалось лишь просо, слово «фыгу-кьI» обозначало как свойство проса быть зерном, так и конкретное представление зерна проса. Когда появились новые культуры, это название было перенесено на них и в то же время расщепилось, получило ряд приставок, обозначающих каждую из этих культур: «хьэ фыгукьI» – ячменное зерно, «ккоцц фыгукьI» – пшеничное зерно. Название «фыгу-кьI» по-прежнему несет две функции: обозначает свойством быть «зерном вообще» и быть «зерном проса». Общее понятие зерна уже образовалось, так как во всех названиях фигурирует «фыгу-кьI», но просо еще не получило своего отдельного названия, и поэтому свойство быть «зерном вообще» еще не получило своего самостоятельного существования (в отдельном слове), еще не превратилось в абстракцию.
В период, когда еще не было культурного плодоводства, слово «мы» обозначало «дикое яблоко», «кислицу». В дальнейшем, когда развивается плодоводство, это название (с определенной приставкой) переносится на садовое яблоко: «мыIэрыс». Старое название «мы» получает теперь двоякую функцию: обозначает свойство быть «яблоком вообще» и быть «диким яблоком».
В период, когда в употреблении были только деревянные гвозди, слово «Iун» обозначало гвоздь, но этим имелся в виду «деревянный гвоздь». Когда впоследствии появились железные гвозди, появилось слово «гъучIы Iун», обозначающее железные гвозди. Слово «Iун» некоторое время несло двойную функцию: обозначало деревянный гвоздь и свойство быть «гвоздем вообще», но потом появилось название «пхъэ Iун» – деревянный гвоздь, и свойство быть «гвоздем вообще» получило абстрактное самостоятельное существование (см. [Яковлев, Ашхамаф, 1941, с. 228–230, 233]).
§ 11. О возникновении понятияРезультатом разнообразных процессов являются, с одной стороны, названия отдельных свойств – абстракции, с другой – конкретные имена, которые тоже возникают сначала как абстракции, но в процессе дальнейшей дифференциации превращаются в названия предметов со всем множеством их свойств.
Однако, рассматривая эти процессы, мы ни слова не сказали о том, как организованы, как связаны между собой эти многочисленные абстракции и конкретные имена. Пока они представляют собой бесформенное, аморфное множество отдельных названий и отраженных в них отдельных свойств и нерасчлененных предметов. В действительности же дело обстоит иначе. Тот самый процесс познания, который мы до сих пор разбирали, – труд и примитивное название, – процесс, который образует все эти абстракции и конкретные имена, одновременно, ходом своего движения связывает их между собой, организует в определенную систему.
В процессе труда выделяется какое-то [принадлежащее] ряду предметов свойство. Оно получает название. Это название, как единственное, становится одновременно названием каждого их этих предметов в целом. Пока еще в речи и в мышлении нет противопоставления предмета в целом и его свойства, так же как и в самом процессе труда нет противопоставления предмета и этого определенного способа его употребления, ибо данный предмет имеет пока только один способ употребления.
Но вот в процессе труда человек открывает новое свойство этого предмета, новый способ его употребления – и дает ему название. Мы оставляем пока вопрос о том, как возникло это второе название, относится ли только к этой группе предметов или же уже существовало раньше и перенесено на наш предмет с другой обширной группы предметов, по общности функции. Для нас важен сам факт, что вновь открытое свойство, новый способ употребления данной вещи получает название. Тем самым предмет получает второе название. Так как они оба относятся к одной группе предметов, между ними должна возникнуть связь. «А есть В» – такова формула этой связи, формула простейшего суждения. Обратимся к примерам.
В адыгейском языке слово «цэ» обозначает зуб животного и одновременно понятие «лезвие», режущий край орудия. Можно предположить, что у адыгейцев первым материалом, использованным для изготовления небольших режущих и колющих орудий – ножей, были зубы животных. Камень первоначально использовался лишь для изготовления больших орудий, и только с появлением сравнительно сложного способа его обработки, давшего возможность изготовлять небольшие плоские осколки, камень мог быть использован для изготовления ножей.
Пока зуб был единственным режущим и колющим инструментом, слово «цэ» обозначало одновременно как его свойство быть определенным орудием, так и конкретный зуб, со всем множеством его чувственно-воспринимаемых свойств. Пока зубы животных использовались в коллективной практике только для изготовления «ножей» и другой материал для этого не употреблялся, не было никакого различия, никакого противопоставления между предметом в целом и названием его отдельного свойства. Точно так же пока камень употреблялся лишь для изготовления больших орудий, его название обозначало как отдельное свойство «быть большим орудием», так и камень в целом со всеми его свойствами. Развитие общественной практики, тот факт, что в камне было открыто новое свойство – его начали употреблять для изготовления небольших орудий, – был выражен в суждении «камень есть зуб».
Н. Н. Миклухо-Маклай, например, сообщает, что у папуасов Новой Гвинеи чаще всего делают ножи и скребки из твердой кремнистой коры бамбука[42]. Но, по-видимому, кора бамбука была использована как материал для изготовления ножей и скребков уже после появления ножей из кости и раковин. Новое использование бамбука обязательно должно было привести к появлению суждения типа: «бамбук есть кость» или «бамбук есть раковина», в зависимости от того, какое из этих названий – «кость» или «раковина» – служило преимущественным названием для общего свойства «быть ножом, скребком».
В суждениях «камень есть зуб», «бамбук есть кость», «А есть В» каждое из названий относится к одному и тому же предмету. Собственно, это и является основанием для их связи. Но именно поэтому эта связь будет, прежде всего, отрицанием одного из двух свойств, открытых в рассматриваемой группе предметов. Ведь каждое из этих названий служило не только и не столько названием чувственно определенного предмета, сколько названием определенного способа его использования. Слово «камень» обозначало не столько сам предмет или материал камня, сколько способ его использования, то есть «большое орудие». Слово «зуб» обозначало не столько сам зуб, сколько небольшое колющее и режущее орудие. Слово «кость» точно так же обозначало небольшое орудие, а «бамбук» – материал для постройки шалашей, хижин, горючее вещество и т. п. Но в том виде, в каком камень может служить небольшим орудием, он уже не годится для изготовления больших орудий. В том виде, в каком бамбук служит для изготовления ножей, он уже не может быть использован для постройки шалашей. Каждый из рассматриваемых предметов не может одновременно употребляться и как А, и как В. По своему использованию он есть или А, или В. Таким образом суждение «А есть В» – прежде всего отрицание одного свойства другим.
Но мы уже говорили, что каждое из рассматриваемых названий обозначает не только способ использования предмета, но и сам чувственно воспринимаемый предмет в целом. Поэтому суждение «А есть В» является не только отрицанием одного свойства другим; оно в то же время утверждает, что определенный чувственный предмет – «камень», – который служит в качестве небольшого режущего и колющего инструмента, есть «зуб», что определенный чувственный предмет «бамбук», который служит в качестве ножа или скребка, есть «кость».
Каждое из связанных в суждении названий возникло как обозначение определенного отдельного свойства предмета, определенного способа его использования. Одновременно оно стало обозначением предмета в целом, его конкретно чувственной определенности. Но рассматриваемый предмет не может быть использован одновременно и как А, и как В, по своему использованию он может быть или тем, или другим. Точно так же, по своей конкретной чувственной природе рассматриваемый предмет не может быть одновременно одним и другим. Поэтому, хотя оба связанных в суждении имени возникли как названия отдельных свойств, то есть как абстракции, одно из них теряет это свое значение и становится обозначением предмета в целом. Какое из них, это зависит от конкретных условий, но какое-нибудь обязательно должно быть обозначением только предмета в целом. Оно безразлично к отдельным свойствам предмета, в том числе и к тому, названием которого оно раньше служило. Оно обозначает свойства предмета, но все – только потенциально и ни одного не обозначает в действительности. Наоборот, второе название, в своем отношении к первому, обозначает только свойство.
Таким образом, только в форме суждения, в форме противопоставления двух названий одно из них завершает свое превращение в абстракцию, становится «чистой» абстракцией. «Камень есть зуб» – в этом суждении слово «камень» уже не обозначает свойства быть «крупным орудием». Оно обозначает камень как определенный чувственный предмет, как материал. Наоборот, слово «зуб» уже не обозначает сам зуб как чувственно определенный предмет, а только определенный способ использования предметов, их свойство «быть небольшим колющим и режущим орудием».
Примитивное суждение «А есть В» не только завершает развитие одного из имен в абстракцию, оно является в то же время исходным пунктом для движения нового образования – понятия.
Это суждение само уже является простейшей формой понятия. Поскольку одно из имен стало обозначением предмета в целом, а другое – обозначением отдельного свойства, в этой связи, в суждении «А есть В», осуществляется прежде всего противопоставление предмета в целом и его отдельного свойства.
Здесь утверждается, что предмет А как цельный предмет есть не что иное, как его отдельное свойство В. Здесь выражен анализ предмета А, и его нерасчлененное чувственное представление противопоставлено абстракции и расчленяющему знанию.
Но в этом суждении дано не только расчленение предмета и противопоставление его чувственного представления и способа использования. Здесь содержится одновременно утверждение, что определенный чувственный предмет А используется как В, есть по своему назначению В и только В. «Камень есть зуб (режущее орудие)», «бамбук есть кость (режущее орудие)», в данной конкретной ситуации они используются и могут быть использованы только таким образом. Тем самым отрицается особенность предмета, его самостоятельность, его существование, отличное от определенного способа его использования.
Может показаться, что мы вернулись к исходному пункту: единство предмета и свойства, явившееся исходным пунктом нашего движения, снова оказывается налицо. Но это уже нечто другое. Это единство обогащенное, развитое, оно уже предполагает различие. Мы начинаем с имени, которое предполагает нерасчлененное единство предмета и свойства. Следуя за движением практики, выделившей в этом предмете еще одно свойство, выражая результаты практического анализа, мы связываем первое имя со вторым, которое несет в себе ту же действенность, то есть является одновременно названием предметов в целом и их отдельного свойства. В этой связи каждое из имен получает новое содержание, отличное от первоначального. «Камень» становится «зубом», то есть колющим и режущим орудием, «бамбук» – «костью», то есть ножом или скребком. Мы снова возвращаемся к «камню» и «бамбуку», но теперь эти названия выступают уже в обогащенной форме, с новым содержанием, ибо они предполагают эти связи, эти суждения, он содержит их в себе.
Когда процесс начинался, мы не знали, что А есть В. Более того, мы отрицали, что предмет может быть чем-либо иным, кроме А. Как А он был четко определен и непримиримо враждебен ко всему остальному. Но непосредственный процесс труда нарушил эту определенность. Он отверг А как А и превратил А в В. Суждение отразило, фиксировало и тем освятило в сознании это революционное действие труда. Теперь, в конце процесса, нам кажется естественным, что А есть В, теперь мы склонны предположить, что А всегда, с самого начала, было В, что закон тождества и закон противоречия не нарушены.
На деле же этот акт труда был революцией, и, как всякая революция, он отменил на время все законы, кроме закона самой революции, закона движения.
В суждении «А есть В» перед нами впервые выступает понятие. Мы назвали абстракцией простейшую форму мысли – название, которое обозначает одно какое-либо свойство предмета и одновременно весь предмет в целом. Ее содержание еще не расчленено, и общее чувственное представление предмета еще не противопоставлено его отдельным свойствам.
Понятие является более сложной формой мысли. Оно складывается как определенная связь абстракций, и его простейшая форма представляет собой суждение «А есть В». Эта связь выражает определенный анализ предмета в целом и его отдельных свойств. Эта простейшая связь содержит в зародыше синтез выделенных в процессе анализа и абстрагирования отдельных свойств предмета в некоторое единство. Этот анализ принимает развитую форму, когда в процессе труда человек открывает в этом же предмете новые свойства и дает им названия. Эти новые абстракции вступают в определенные связи с уже существующими и образуют более сложное, обогащенное, развитое понятие. Таким образом, понятие выступает как определенная связь абстракций, или, другими словами, как определенное единство и связь отраженных в форме абстракций свойств предметов и явлений. Поэтому можно было бы определить понятие как связь абстракций, выражающую одновременно анализ предметов и явлений действительности на отдельные свойства и синтез этих свойств в некоторое единство.
Разрешая противоречия, заключенные в каждой абстракции, разобранная нами форма суждения – понятие – сама создает ряд противоречий. Суждение «А есть В» расчленяет каждую из абстракций, превращая ее либо в название только отдельного свойства, либо в название только предмета в целом и его чувственного образа. Но это расчленение остается пока в пределах лишь этого суждения. Каждая из входящих в него абстракций сама по себе, вне конкретной ситуации и конкретного суждения, по-прежнему несет двойную функцию, обозначая одновременно как отдельное свойство предметов, так и сами предметы в целом. Поэтому вслед за суждением «А есть В» должно ставиться суждение «А не есть В». Мы говорим «камень есть зуб», выражая этим тот факт, что камень как определенный чувственный предмет может служить небольшим колющим и режущим орудием. Мы используем в этом суждении одно значение слова «камень». Но это слово является не только обозначением определенного чувственного предмета, но и названием определенного способа его использования, названием большого орудия. И в этом втором значении «камень» не является «зубом», точно так же как зуб как определенный чувственный предмет не может быть использован в качестве большого орудия. Суждение «камень не есть зуб» только выражает эти факты практики. Противоречие между суждениями «А есть В» и «А не есть В» выражает противоречие между новым, обогащенным, развитым содержанием и старой, еще не развитой формой. Знание людей о предмете А углубилось, а форма выражения их знания осталась прежней: одно и то же слово, по существу, обозначает два различных свойства предмета. Разрешение этого противоречия осуществляется изменением формы, приспособлением ее к новому содержанию. Старая абстракция расщепляется на две, одна из которых обозначает первый способ использования предметов А, другая – предметы А в целом, как определенные чувственные предметы. Мы можем пока говорить только о результатах этого процесса, не показывая, как именно и в какой форме он идет, ибо этот процесс неизмеримо более сложный, чем разобранные, и предполагает связь по крайней мере трех суждений.
§ 12. Об относительной самостоятельности мышленияТеория познания диалектического материализма исходит из того, что развитие мышления определяется в конечном счете развитием и усложнением процессов труда. Однако, показывая общую зависимость мышления от процессов труда, теория познания диалектического материализма подчеркивает, что мышление обладает также относительной самостоятельностью и активностью. Если на самых ранних этапах развития человеческого общества мышление рабски следует за непосредственными процессами труда, закрепляя его случайные успехи в анализе действительности, то по мере развития человека, его головы – развития, происходящего в этих же процессах труда и ими называемого, – мышление, то есть процессы движения понятий, начинает все больше отрываться от отдельных актов деятельности. Мышление получает относительную самостоятельность, или, иначе, понятия получают некоторое самодвижение.
Надо сразу сказать, что это движение самостоятельно лишь относительно, лишь в очень узких пределах. Начало своего движения, толчок к движению, как мы уже видели, понятия получают в процессе труда. Проделав некоторый ограниченный путь, иногда больший, иногда меньший, всякое понятие возвращается к действительности, соотносится с объективным миром. Это соотношение есть процесс труда, и в нем проверяется действительность понятия, его соответствие объективному миру.
Получив толчок к движению в процессах труда, наши понятия в своем развитии опережают эти процессы, принимают такую форму, которая не вытекает непосредственно из предшествующей деятельности. Действительному взаимодействию с природой, ее действительному реальному анализу и изменению предшествует мысленный анализ и мысленное изменение. Затем начинается процесс труда, который уже подчинен понятию и мысленному плану, сложившемуся в голове человека. Но подобное господство мышления над процессами труда, подчинение процесса труда мышлению, выражает лишь одну сторону в их отношениях. В том самом акте труда, который, казалось бы, всецело подчинен понятию, именно понятию самому приходится отстаивать свое право на существование, именно ему приходится доказывать, что оно «действительное», то есть истинное понятие и имеет право на господство. Иногда ему это удается, иногда нет, но в каждом трудовом акте понятие перестает быть тем, чем оно было до этого. Оно выходит из акта труда измененным, оно получает толчок, побуждение к новому изменению и движению, чтобы затем снова быть соотнесенным с действительностью, снова получить толчок и т. д.
В философии Гегеля развитие мышления рассматривалось в ненаучной идеалистической форме, как самодвижение, саморазвитие понятий. Гегель представлял дело так, будто понятия имеют в себе противоречия и благодаря этим противоречиям понятия развиваются сами по себе и из себя. В действительности же понятия не обладают абсолютным самодвижением и внутренними противоречиями. Противоречия, которые Гегель приписывал самому понятию, суть противоречия между бесконечным по своим свойствам миром и всегда конечным, ограниченным, неполным знанием человечества. Эти противоречия возникают не из самого мышления, а из отношения мышления к объективному миру, отношения, основу которого составляет общественная практика, труд.
Но, твердо помня о постоянной зависимости мышления от объективного мира и от процессов труда, в которых оно с этим миром соотносится, мы не должны забывать также об относительной самостоятельности мышления.
Эта относительная самостоятельность проявляется, прежде всего, в способах образования абстракции. До сих пор мы рассматривали лишь тот способ образования абстракции, который заключается в назывании открытых в процессе труда свойств. Однако этим способом образуются отнюдь не все абстракции, а только часть их, составляющая базис, на котором в дальнейшем идет относительно самостоятельное развитие мышления. Когда этот базис создан и конкретные имена начинают переплетаться с представлениями, появляется новый способ образования абстракции, основывающийся на взаимодействии первой и второй сигнальных систем. Мы уже останавливались на этом способе, когда говорили о переносе названий. Такие абстракции возникают на основе чувственных представлений и сравнения этих представлений друг с другом и с уже названными, практически важными предметами. Так, например, тасманийцы называют все длинное – «как ноги», круглое – «как шар». Постепенно изменяясь, эти названия отделяются от названия предметов, приобретают самостоятельное существование, и таким образом чувственные свойства предметов получают свои названия, то есть абстрагируются.
Абстракции могут образовываться не только на основе взаимодействия первой и второй сигнальных систем, но и исключительно на второсигнальной основе. Примерами таких абстракций могут служить абстракция «формы», возникшая сначала для обозначения воспринимаемого в чувствах контура предметов, а затем примененная для анализа внечувственных явлений, абстракция «стоимости», «бесконечного» и др.
Относительная самостоятельность мышления проявляется также в образовании и движении понятий. Поскольку понятия представляют собой определенные системы связей между абстракциями, движение понятий должно заключаться в изменении этих связей, в устранении уже существующих и в образовании новых. На достаточно высокой ступени развития мышления понятия могут образовываться априорно, путем всевозможных, часто произвольных комбинаций уже существующих абстракций. Совершенно ясно, что таким путем могут создаваться также и неверные, фантастические понятия. И они нередко возникают, но процесс соотношения наших понятий с действительностью постоянно ломает и исправляет их. ‹…›
В двух последующих главах на примере конкретных понятий «бесконечного» и «скорости» мы хотим проследить, как в конкретных условиях проявляются те закономерности и противоречия, о которых мы говорили выше. Исследуя движение понятий, намечая общие моменты этого движения, мы подходим к изучению форм развития нашего знания, форм движения мышления.
Глава вторая. Из истории развития понятия «бесконечное» от Фалеса до Аристотеля
До сих пор мы говорили преимущественно о таком образовании абстракций, которое идет вслед за непосредственными процессами труда, фиксируя в названиях его результаты. Однако, как мы уже отметили в предыдущей главе, абстракции образуются не только таким путем. Благодаря общему развитию мышления анализ и синтез явлений действительности может принять исключительно умозрительный характер, и тогда многие абстракции образуются на основе лишь мысленного сравнения и анализа чувственных представлений. Такой созерцательный способ исследования природы получил свое наивысшее развитие в античной науке и философии. Исследование природы, которое производили древние греки, не было связано со специально поставленными опытами, расчленяющими, анализирующими предметы и явления действительности. Эксперименты им заменял весь опыт их народа, вся общественная практика и ее результаты, закрепленные в обычном смысле слов. «У греков ‹…› природа рассматривается еще в общем, как одно целое. Всеобщая связь явлений природы еще не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания» [Энгельс, 1961 г, с. 369].



