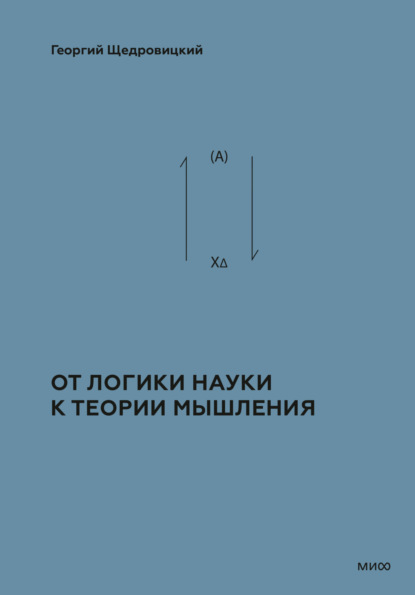
Полная версия:
Теоретико-мыслительный подход. Книга 1: От логики науки к теории мышления
Так устраняя проблему отражения, Гегель разрешает вопрос о соотношении формы и содержания в мышлении. Совершенно правильное научное положение о содержательности форм мышления выступает как требование ненаучной идеалистической системы, отождествившей бытие с мышлением.
Таким образом, то решение вопроса о соотношении формы и содержания, которое дал Гегель, так же неприемлемо для нас, как и решение, данное Кантом.
«Логику Гегеля нельзя применять в данном ее виде; нельзя брать как данное. Из нее надо выбрать логические (гносеологические) оттенки, очистив от Ideenmystik[16]; это еще большая работа», – писал Ленин [Ленин, 1969б, с. 238].
Точно так же обстояло дело и с диалектическим методом Гегеля, который был итогом, резюме, сутью его логики. Законы диалектики выступают у него не как законы движения всего объективного мира и познания, а как законы «саморазвития», «самодвижения» понятий. Благодаря этому они приняли извращенную, мистическую форму движения по трехчленной формуле[17] с постоянным возвращением к исходному пункту.
Задача дальнейшего развития логики и диалектики заключалась в том, чтобы освободить диалектический метод от идеалистической оболочки и привести его к той форме, в которой он только и становился действительной формой развития мыслей.
«У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно» [Маркс, 1960, с. 22].
§ 2. О применении категорий «форма» и «содержание» к мышлениюВ предыдущем параграфе мы видели, что как в логике Канта, так и в логике Гегеля категории формы и содержания применяются для того, чтобы выразить определенное отношение между сознанием и объективным миром. Однако как первое, так и второе решение этого вопроса не могут нас удовлетворить ‹…›.
Как мы уже говорили, вводя в логику категории формы и содержания, Кант хотел отделить субъективный момент в мышлении от объективного. Однако сделанная им попытка механически разделить мышление противоречит его действительной природе, так как мышление является также единством объективного и субъективного, в котором объективная сторона заключена не в самом процессе, а в его отношении к действительному миру. Выделяя в процессах мышления форму и содержание, противопоставляя их друг другу, Кант, по существу, отрицал возможность отражения, возможность познания в субъективном объективного.
Гегель, наоборот, отождествил мышление с бытием, форму с содержанием, уничтожив тем самым принципиальное различие между субъективным и объективным в процессе отражения. Эта точка зрения столь же неприемлема для нас, как и кантовская.
Задаваясь вопросом, можно ли применять к процессам мышления категории формы и содержания и если можно, то в каком смысле, мы должны, прежде всего, обратиться к классикам марксизма-ленинизма и посмотреть, как употребляли они эти категории в применении к другим процессам.
Во-первых, категории формы и содержания выражают часто отношение между двумя разными явлениями (или процессами), одно из которых предполагает другое. Так, например, мы говорим, что производственные отношения являются формой развития производительных сил[18].
Во-вторых, категории формы и содержания применяются для анализа одного какого-либо предмета, процесса или явления. В этом случае они выражают отношение между «глубинными процессами» и «поверхностными явлениями», между сущностью и явлением.
‹…› Характерно, что категории формы и содержания применяются к процессам и выражают определенные закономерности этих процессов. Говоря, что производственные отношения являются формой в процессе развития производства, а производительные силы – содержанием[19], Маркс выражает тот факт, что характер производственных отношений зависит от характера производительных сил, определяется последним.
‹…› Рассматривая мышление, мы замечаем, что оно содержит ряд черт, общих с экономическими процессами, разбираемыми К. Марксом ‹…›. Во-первых, мышление является процессом; во-вторых, мышление отражает объективный мир, действительность и в своем движении следует за развитием и движением объективного мира; в-третьих, объективный мир, действительность всегда выступает для человека как отраженная действительность, как отражение, и в этом смысле отношение между объективным миром и отражением подобно отношению между сущностью и явлением.
В силу этого мы можем применить к мышлению категории формы и содержания, чтобы выразить в них отношение мышления к объективному миру. Мышление, как и всякий процесс отражения, является единством субъективного и объективного по своему отношению к действительности. Называя мышление субъективным процессом и способом отражения, формой, а свойства предметов и явлений объективного мира, которые познаны в мышлении, – содержанием, мы производим тем самым определенный анализ процессов мышления, выражаем определенные закономерности его развития.
Каждое понятие и категория, каждое суждение и умозаключение являются только «ступеньками» в процессе познания природы. Они охватывают, отражают свойства предметов и явлений объективного мира всегда неполно и неточно, но в своем движении они постоянно приближаются к отражению все более точному и глубокому. Как субъективный процесс, как способ отражения понятия, суждения и умозаключения являются формами, но так как этот процесс определенным образом относится к действительности, отражает свойства предметов и явлений действительности, он имеет определенное содержание, состоящее из отраженных, то есть познанных свойств объективного мира.
В каждый момент времени каждой форме соответствует свое строго определенное содержание. Но наше знание никогда не стоит на месте, оно постоянно развивается, обогащается, охватывая все новое и новое содержание. Если мы мысленно разорвем этот процесс и будем следить за отдельным его актом, то нам представится следующая картина. На одном полюсе находятся сами предметы и явления, на другом – человек с его знаниями об этих предметах. Эти знания не исчерпывают всех свойств предметов и явлений, они отражают лишь их небольшую часть. Эта познанная часть свойств является содержанием знания. Ей соответствует определенная форма, зависящая от содержания. Цель дальнейшего процесса познания состоит в том, чтобы увеличить знание, расширить его содержание. Но процесс начинается с того, что мы соотносим наши формы с новым содержанием. Мы применяем к новым процессам и явлениям объективного мира понятия и законы, выражающие другое содержание. Возникает противоречие. Противоречие между старой формой и новым содержанием, которое решается изменением формы, то есть наших понятий и законов, приспособлением их к новому содержанию. Именно так и надо понимать общее утверждение о том, что между формой и содержанием в определенные моменты возникает конфликт, противоречие ‹…›.
Таким образом, категории формы и содержания как нельзя лучше подходят к отражению диалектики развития мышления, к отражению того отношения, которое существует между мышлением и объективным миром.
Такое деление процессов мышления на форму и содержание не дает никаких оснований для деления науки о мышлении на формальную логику и теорию познания. Наука, изучающая формы мышления, всегда исследует эти формы в неразрывной связи с их содержанием. Бессодержательного мышления, то есть отражения, не отражающего, не соотносящегося в той или иной форме с действительностью, не может быть, а поэтому не может быть форм, отличных от содержания. Каждый процесс, каждый акт мышления является определенной формой, как субъективный процесс, и в то же время, поскольку он относится к определенным свойствам предметов и явлений объективного мира, у него имеется определенное содержание, в виде этих свойств.
В настоящее время в логике существует и получило широкое распространение другое понятие формы. Оно определяется как то общее, что существует в процессах мышления. Несмотря на долгую историю и «солидные» традиции, которые имеет за собой это понятие, оно кажется нам неудачным.
Мы уже показали, что такое определение формы ведет свое начало от Канта и в его идеалистической философии имело свой смысл. Наша логика отказалась – не могла не отказаться – от общего мировоззрения Канта, выбросила тот смысл, который он вкладывал в эту категорию, но почему-то оставила ее внешнюю форму и определение. Благодаря этому категория формы на деле перестала служить выражением определенного анализа процессов мышления и только создает его видимость. Дело происходит следующим образом. Приступив к изучению конкретных процессов мышления, мы выделяем его общие моменты в определенных понятиях. Эти определения получают название форм, и считается, что в мышлении существуют формы, независимые от содержания и ему противостоящие. Вот здесь-то и совершена подмена. Формы существуют в мышлении точно так же и на тех же правах, как законы в любых явлениях, отражаемые в наших понятиях. Сегодня мы познаем одни закономерности мышления, и они выступают как формы, завтра – другие, и они опять выступают как формы, послезавтра – третьи, и они снова должны быть включены в число форм. Понятие формы оказывается очень условным и в идеале должно включать в себя все закономерности мышления, то есть мышление во всей его полноте.
Но это только в идеале. На деле же, обозначая уже открытые закономерности мышления, категория формы противопоставляет их еще не открытым закономерностям как содержанию. Благодаря этому она играет исключительно реакционную, ретроградную роль. Вместо того чтобы изучать мышление в целом и находить все новые и новые его закономерности, логика постоянно хочет ограничить себя уже открытым, противопоставить это открытое всему остальному. Поэтому употребление категории формы в этом смысле неудачно, тем более что оно ничего не дает для анализа процессов мышления, а только разграничивает все время то, что уже открыто, от того, что еще предстоит открыть.
Так мы выяснили, откуда возникло «традиционное» деление процессов мышления на формы и содержание. Мы показали, что с точки зрения диалектического материализма как кантовское, так и гегелевское применение этих категорий к процессам мышления ненаучно. Мы выяснили, что категории формы и содержания должны служить для анализа процессов отражения, выражая в них единство объективного и субъективного. Теперь мы должны снова вернуться к исходному пункту, чтобы показать тождество логики и теории познания.
§ 3. О тождестве логики и теории познанияЛогика есть наука о мышлении. Процессы мышления и процессы познания, по существу, тождественны, во всяком случае, процесс познания составляет главную часть в мышлении, которой подчиняются все остальные (изложение уже найденного, доказательства и т. п.).
Процесс познания выражается в последовательной смене конечных, ограниченных форм нашего знания. Каждая из этих форм не дает нам истины целиком, полностью. «…Мысль (=человек) не должна представлять себе истину в виде мертвого покоя… ‹…›
Познание есть вечное, бесконечное приближение мышления к объекту. Отражение природы в мысли человека надо понимать не “мертво”, не “абстрактно”, не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их. ‹…›
Истина есть процесс» [Ленин, 1969б, с. 176, 177, 183].
Содержание сознания не может выступать иначе как в бесконечной последовательности конечных форм того или иного знания. Это неизбежно. Но в науке о мышлении нельзя абсолютизировать эти формы, нельзя брать конечные, ограниченные определения вне их связи с предшествующими и последующими формами, ибо взятые таким образом формы не дадут нам истины, не дадут нам науки о познающем мышлении, не дадут нам действительного содержания объективного мира. Поэтому логика, наука о познающем мышлении, – [а только таким бывает действительное мышление – может быть только историей смены одних форм знания другими, то есть историей познания][20].
Изучая все последовательные формы в их развитии, изучая их взаимопереходы, изучая саму эту последовательность форм, логика вскрывает закономерности процесса познания, закономерности мышления. Но история процесса познания, рассматриваемая как наука о бесконечной последовательности ограниченных, конечных форм знания, бесконечно приближающихся к полному и неограниченному знанию, рассматриваемая как наука о закономерности смены одних форм другими, есть наука о познании в мышлении содержания объективного мира. Она отвечает на вопрос, как именно познается мир. Ответ на этот вопрос всегда был предметом «теории познания». Отсюда тождество логики и теории познания, осуществляемое в истории развития мышления.
«Итак, не только описание форм мышления и не только естественно историческое описание явлений мышления…, но и соответствие с истиной, то есть?? квинтэссенция, или, проще, результаты и итоги истории мысли?? – писал Ленин. – ‹…› В таком понимании логика совпадает с теорией познания. Это вообще очень важный вопрос. ‹…› Не психология, не феноменология духа, а логика = вопрос об истине» [Ленин, 1969б, с. 156][21].
В таком понимании логика совпадает с теорией познания. А никакого другого понимания, кроме исторического и диалектического материализма, быть не может.
§ 4. О тождестве логики и диалектикиПосле того как мы свели теорию познания и логику к истории мышления, легко видеть их тождество с методом, то есть с диалектикой. Основная проблема метода представляется нам в следующем виде. Предположим, мы хотим найти метод исследования окружающего мира, или, другими словами, вид и способ познания. Ясно, что чем бы ни был этот способ и вид, он должен зависеть, в первую очередь, от природы объективного мира. «“Развитие” (des Erkennens[22])…“должно определяться природой вещей и самого содержания”…» [Ленин, 1969б, с. 93][23].
Таким образом, определение метода предполагает уже знание природы объективного мира. Это знание в абсолютной форме, то есть тождественной самому бытию, мы не имеем, но зато, на каждом этапе нашего развития, мы имеем конечное, ограниченное, неполное знание окружающего нас мира, выраженное в наших понятиях о нем. С этим знанием мы и подходим каждый раз к дальнейшему исследованию деятельности. Поэтому наше, конечное, ограниченное и неполное знание каждый раз выступает как метод дальнейшего познания.
Однако методом оно является только по отношению уже к предыдущему [знанию] – оно является результатом процесса, его итогом, и поэтому само предполагает какой-то метод. Так мы снова пришли к бесконечной последовательности конечных, неполных и ограниченных форм нашего знания, каждая из которых является результатом предшествующей, и методом, средством для последующей.
Рассматривая последовательность этих форм как непрерывный процесс, мы отмечаем в нем одно весьма интересное свойство. Ведь путь, способ приближения этих форм к действительности, то есть закономерность этого движения и есть путь, вид, способ познания, который мы должны были найти. Таким образом, если предположить, что закономерности развития нашего знания в достаточно большие промежутки времени в общем единообразны, то выяснение метода нашего мышления сводится к исследованию процессов его развития и выяснению основных закономерностей этого движения.
Это исследование начинается с того знания, которое мы уже имеем, с наиболее общих закономерностей всех материальных, природных вещей. Мы изучаем процесс возникновения этого знания, процесс познания. Мы выводим [знания о] закономерности этого процесса, и они также становятся нашим методом, средством дальнейшего исследования. Изучая, как движутся наши понятия, как они приближаются к полному и неограниченному знанию объективного мира, мы узнаем тем самым, как они должны двигаться (метод).
Но то, что сначала было исходным пунктом нашего исследования – знание наиболее общих закономерностей всех материальных и природных вещей, – само выступает затем в обогащенной форме, как итог, вывод нашего исследования. Диалектика является итогом истории познания не только как наука о закономерностях мышления, но и как наука о законах развития всех материальных, природных вещей. Действительно, мир дан нам только в отражении, и поэтому история мышления, являющаяся историей развития нашего знания об окружающем мире, о человеческом обществе, о самом человеке своим итогом имеет основные и наиболее общие законы развития всего существующего.
Законы объективного мира и законы развития мышления мы в разной степени выводим из истории познания. «Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития “всех материальных, природных и духовных вещей”, т. е. итог, сумма, вывод истории познания мира» [Ленин, 1969б, с. 84]. В другом месте Ленин делает выписку из Гегеля: «Логика есть чистая наука, то есть чистое знание во всем объеме его развития» – и замечает: «1-ая строка[24] ахинея. 2-ая гениальна» [там же, с. 92].
Таким образом, диалектика как наука о методе тождественна истории познания, является ее итогом, выводом и не может быть оторвана от истории познания, не превращаясь в свою противоположность – в мертвую форму. Но тогда диалектика совпадает с логикой.
Наука о закономерностях развития нашего мышления совпадает с наукой о том, как наше мышление отражает действительный мир, то есть логика совпадает с теорией познания.
Теория познания выступает как итог науки о закономерностях нашего мышления, но и метод есть итог этой же науки, использующей эти же закономерности в свернутом виде для дальнейшего исследования действительности. Таким образом, теория познания совпадает с диалектическим методом[25].
Такова основная общая проблема метода – проблема тождества логики, теории познания и диалектики, к пониманию которой в извращенной, мистифицированной форме человечество подошло в лице Гегеля и которая в общем виде была окончательно разрешена В. И. Лениным в «Философских тетрадях».
«Диалектика Гегеля есть… обобщение истории мысли, – писал Ленин, – Чрезвычайно благодарной кажется задача проследить сие конкретно, подробнее, на истории отдельных наук. В логике история мысли должна, в общем и целом, совпадать с законами мышления» [Ленин, 1969б, с. 298]. «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники» [там же, с. 131].
Позднее в конспекте книги Ф. Лассаля о Гераклите[26] Ленин намечает «области знания», из которых должна сложиться теория познания и диалектика: история философии, история отдельных наук, история умственного развития ребенка и животных, история языка, психология и физиология органов чувств[27].
В настоящей работе, следуя плану, намеченному Лениным, мы хотим рассмотреть некоторые общие моменты в развитии понятий.
Глава первая. О возникновении абстракций и понятий
§ 1. Об отношении между процессами труда и мышленияМышление является особой специфической формой отражения действительности. Оно присуще только человеку и возникает, по-видимому, как продукт и результат особенного взаимодействия человека с природой. Поэтому, приступая к изучению мышления, мы должны начинать, во-первых, с самого общего и простейшего отношения, какое только существует между первобытным человеком и природой, с того отношения, из которого впоследствии развиваются все остальные; во-вторых, мы должны искать в нем особенное, то, что, собственно, и делает это отношение человеческим.
Таким образом, наиболее общим и в то же время особенным отношением является труд, «процесс, в котором человек своей собственной деятельностью обуславливает, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой».
В настоящее время человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий. Теперь в конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, то есть в представлении работника. Современный труд теснейшим образом связан с мышлением, и может показаться, что мышление не только предшествует тем или иным отдельным практическим действиям, но и исторически предшествует процессу труда в целом.
Величайшей заслугой К. Маркса и Ф. Энгельса было то, что при анализе этих процессов они применили диалектический метод и материалистическую теорию, которые позволили им вскрыть действительные отношения между процессами труда и мышлением. Как показали Маркс и Энгельс, люди начинают отнюдь не с теоретического отношения к предметам внешнего мира. Как и всякое животное, они начинают с того, что едят, пьют и т. п., то есть не «стоят» в каком-либо умозрительном отношении, а активно действуют, овладевают при помощи действия известными предметами внешнего мира и таким образом удовлетворяют свои потребности. Они, стало быть, начинают с производства, – говорит Маркс. – Веществу природы они сами противостоят как сила природы. «Для того, чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он [человек – Ред.] приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу», свое тело и, в особенности, свою голову [Маркс, 1960, с. 188]. В процессе труда человек неслыханно развивает присущие ему, как и всем животным, чувственные формы отражения действительности; но этого мало, он прибавляет к ним еще особую специфическую форму отражения – мышление.
Только труд рождает мышление, которое, в свою очередь, затем изменяет характер и форму самого труда, превращая его из инстинктивной животносообразной деятельности в сознательный процесс приготовления и применения орудий. Между процессами труда и мышления всегда существует диалектическое отношение причины и следствия. Мышление есть всегда результат, следствие процессов труда, и в то же время развитие мышления является необходимым условием дальнейшего развития труда. Труд развивает мышление, мышление, в свою очередь, развивает и совершенствует труд.
Однако нельзя забывать, что, если на высокой ступени развития мышление все более опережает непосредственные практические действия, «определяет способ и характер» деятельности человека, подчиняя его волю, то первоначально, на заре общественного развития то, что мы сейчас называем мышлением, выступало прежде всего в роли скромной служанки инстинктивных, животнообразных форм труда, закреплявшей и фиксировавшей его нередко случайные результаты и достижения. Поэтому, исследуя развитие мышления, мы должны выводить его из непосредственных процессов труда.
§ 2. О характерных особенностях трудаЧем отличается взаимодействие человека с природой от взаимодействия с той же природой самых развитых животных – обезьян?
Всякое животное, в том числе и обезьяна, действует на предметы, как правило, непосредственно. Если и случается ему иногда действовать опосредствованно, то есть использовать в своих действиях палки или камни, с их помощью действовать на другие предметы, то это бывает так редко, что не может оставить следа в самом животном.
Наоборот, взаимодействие человека и природы носит, как правило, опосредствованный характер. Специфическая, характерная особенность процессов труда состоит именно в употреблении и создании орудия, то есть предметов, с помощью которых, через которые человек действует на другие предметы. Собственно труд появляется уже тогда, когда воздействие человекообразной обезьяны на природу приобретает опосредствованный характер[28]. Но как только процесс труда достигает хотя бы некоторого развития, он нуждается уже в подвергшихся предварительной обработке средствах труда, то есть в орудиях[29]. Чем более опосредствованный характер приобретает деятельность человека, тем больше он развивается, и, наоборот, чем больше развития достигает человек, тем более опосредствованный характер приобретают его действия на различные предметы природы.
Вторая специфическая особенность труда заключается в его коллективном характере. Наши обезьяноподобные предки, как говорит Ф. Энгельс, с самого начала были общественными животными. «Развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности» (см. [Энгельс, 1961а, с. 488–489]). Более тесное сплочение членов общества, в свою очередь, создавало предпосылки для дальнейшего развития труда.
Итак, исторически труд возникает из инстинктивного, непосредственного отношения животных к природе. От этого отношения он отличается своим опосредствованным и коллективным характером. Процесс непосредственного взаимодействия животных и природы вызывает к жизни чувственные формы отражения действительности: ощущения, восприятия, представления, или – как их называет И. П. Павлов – «сигналы первого порядка». Процесс труда вызывает к жизни речь – сигнальную систему второго порядка – и мышление[30].



