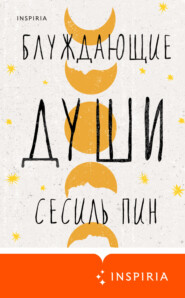
Полная версия:
Блуждающие души
После чего я отправился к своим сестрам и рассказал им, сколько разных вкусов мороженого помещается в крошечный розовый фургончик.
23
Октябрь 1984 – Лондон
– Спасибо. Мы свяжемся с вами, если нас заинтересует ваша кандидатура.
Женщина пожала ему руку и проводила за дверь. Те же самые слова ему уже доводилось слышать и вчера, и позавчера, и днем раньше. В витрине бакалейной лавки висело объявление «Требуется помощник», крупные жирные буквы были заметны с противоположной стороны улицы, и он решил попытать счастья.
Из раза в раз повторялось одно и то же – некий обряд унижения, о котором он в итоге сожалел. Он заходил в строительный магазин, ресторан, супермаркет, всюду, где была вакансия. Подходил к служащему, который отводил его к менеджеру. Менеджер разглядывал его, иногда вздыхал, иногда улыбался, проводя собеседование прямо на месте. Начиналось со знакомства.
– Минь, – говорил он в ответ, пожимая им руку.
Его всегда переспрашивали:
– Как?
И он повторял свое имя, причем положение языка немного менялось, он лишь слегка касался нёба, а не опирался на него. Затем менеджер быстро переходил к делу и расспрашивал об опыте работы. Но рассказывать было особо нечего. За последние три года, из месяца в месяц, он лишь перебивался мелкими подработками, в разных сферах, без всякого постоянства.
После окончания школы у него был перерыв, но потом сестра начала давить на него, требовала найти работу: «Ты не можешь сидеть без дела целыми днями, пока я из кожи вон лезу, чтобы содержать тебя». Без лишних разговоров он принялся искать работу, и в конце концов Ань пристроила его в китайский ресторан рядом со своей фабрикой. Несколько месяцев он мыл посуду на тесной душной кухне, выскребая рис из пиал, жирный мясной соус прилипал к пальцам. Во время получасового перерыва на обед он курил с официантами в переулке, у черного входа. Было очевидно, что они больше интересуются его сестрой, чем им, и он использовал это в своих интересах. Минь подбрасывал им обрывки ее личной жизни – например, что в прошлую субботу она вернулась домой довольно поздно и долго висела на телефоне. Они, в свою очередь, делали вид, что им все равно, но внимательно слушали, а он наслаждался этим интересом, замечая, как они ловят каждое слово. Домой он возвращался уставший, пропитанный запахом жира и жареного масла, но довольный проделанной работой и гордящийся заработанными деньгами. Не прошло и года, как выросла безработица, клиентов стало меньше, началась Фолклендская война, и ресторан был вынужден сократить персонал, и его уволили первым.
По настоянию сестры Минь связался с Вьетнамской Ассоциацией, недавно основанной для помощи соотечественникам в поиске жилья и работы в Лондоне. Вместе с братом и сестрой он побывал как-то раз на одном из их мероприятий – барбекю в Восточном Лондоне, где можно было пообщаться с вьетнамцами. В основном это были семьи с маленькими детьми, мужчин его возраста было немного, и они либо еще учились, либо уже работали, и их никак не впечатляло то, что он бросил учебу и его сократили.
– Я не могу ни с кем здесь найти общий язык, – сказал он Ань, держа шпажку с куриным мясом в лемонграссе.
– Нужно приложить все усилия, – ответила она. – Ты же сам говоришь, что нам нужно чаще бывать на людях. Заводи разговоры с окружающими, никогда не знаешь, как они тебе могут пригодиться.
Они пробыли там пару часов, пока Минь не начал замечать, что даже сестра устала от разговоров, от этих «Сколько лет вашему ребенку?» и «Мы родом из Вунгтхэма, потом поехали в Кайтак, а затем в Соупли», о чем они обычно старались сильно не распространяться.
* * *В конце концов Ассоциация помогла ему устроиться на работу в маникюрный салон, принадлежащий вьетнамке по имени Лоан. Она неустанно следила за каждым его движением, ходила за ним по пятам, докучая, чтобы он стирал полотенца, переставлял баночки с лаком и отвечал на телефонные звонки с бóльшим энтузиазмом, с еще бóльшим энтузиазмом, и так постоянно. Однако после восьми недель работы он так и не овладел основными необходимыми навыками – утонченностью, умением подпиливать ногти и аккуратно красить их, – и его снова уволили. После этого был «Макдоналдс», но из-за недостаточно хорошего английского языка он не поспевал за темпом. Нередко ему приходилось просить клиентов повторить заказ или они переспрашивали у него сумму счета, иногда ругаясь на него: в лучшем случае – «говори по-английски», в худшем – «гребаный узкоглазый» и плевок в его сторону. Поэтому и отсюда его уволили, менеджер похлопал Миня по спине со словами: «Тебе стоит немного подтянуть английский, и тогда можешь возвращаться».
По дороге из магазина он размышлял о том, что в Америке все было бы иначе. В Америке у них была работа, в Америке таких, как они, было больше – настоящая община вьетнамцев и азиатов, а не просто несколько групп, разбросанных по всему Лондону. Он слышал, что двоюродные братья друзей открывают собственные рестораны и зарабатывают хорошие деньги, что китайские кварталы разрастаются на целые районы, а не на пару улиц. Он слышал, что в Америке можно быть вьетнамцем и добиться успеха, что эту страну построили такие же люди, как он, беженцы и чужестранцы.
У Миня были весьма смутные воспоминания о дяде, к которому они должны были приехать, если бы сработал дурацкий план отца. Еще в Соупли он пытался расспросить Ань об этом родственнике, но она быстро меняла тему разговора, заявляя, что понятия не имеет, где он живет и чем занимается, что она вроде бы даже не знает его полного имени. Минь понимал, что для сестры это щекотливая тема, поэтому она не хочет ничего объяснять. По правде говоря, он испытывал то же самое. В конце концов, именно дядя подбросил отцу эту обреченную на провал идею. Минь перестал об этом думать, и с годами дядя стал для него тусклым, далеким мифом, слабой тенью той жизни, которая могла бы у них сложиться.
Вместо того чтобы жить в Америке, он в одиночестве бродил по улицам Лондона, без работы и без родителей. Он таил в себе обиду – на кого или на что, он точно не знал, но это чувство росло с каждым днем по мере того, как он терял юношескую наивность. Он ощущал, как его кожа становится толще и жестче от каждого «узкоглазого», каждого «ни хао[24]» и каждого косого взгляда в его сторону. Он был подавлен унынием своей жизни, нагромождающимися трудностями, которые преграждали ему путь, предрассудками, растущим уровнем безработицы, неуверенным английским – и задавался вопросом, какой во всем этом смысл. Если бы его семья осталась во Вьетнаме, они бы и сейчас были вместе и, возможно, им удалось бы устроить свою жизнь, убежать от войны. Возможно, они даже переехали бы в большой город, Ханой или Хошимин. Если бы они остались, то были бы вместе, и это все, чего он так желал.
Увидев у подъезда соседей – трех других вьетнамцев, прислонившихся к кирпичной стене, – он подошел к ним, чтобы поздороваться. Они были постарше лет на десять, но ему нравилось проводить с ними время, он ощущал себя взрослым, когда они вместе курили перед невысокими зданиями. Миня особенно интересовали разговоры о политике, он горячо кивал в ответ на мудрые высказывания соседей: «Вот сука. Как можно ожидать, что они дадут нам работу, если у них даже для себя ее нет? Нам достаются только объедки, уж поверьте мне». Он запоминал их слова и повторял в разговорах с Ань, хотя она не воспринимала его всерьез: «Ты должен быть благодарен за то, что у нас есть».
Парни приветствовали его кивками. Ланг, их неофициальный главарь, передал ему косяк, который они делили между собой. Сделав одну затяжку, Минь попытался подавить кашель.
– Почему такое лицо? – спросил Ланг, забирая косяк.
Минь рассказал о неудачном собеседовании, об увольнениях с работ, которые ему совсем не нравились, о бесконечных «мы свяжемся с вами, если нас заинтересует ваша кандидатура» и о следующей за этим тишине. Они пристально смотрели на него, пока Минь говорил, а когда он закончил, украдкой покосились на Ланга, словно ожидая его реакции. Ланг сфокусировал взгляд на косяке, зажатом между пальцами, глубоко задумался, а затем спросил:
– Сколько тебе лет? Знаешь этот район? Можешь выходить из дома по ночам?
Когда Минь ответил «двадцать» – и положительно на все остальные вопросы, – Ланг снова уставился на косяк. Он поднес его к губам и глубоко затянулся, запах и дым вокруг него становились все гуще.
– Возможно, у меня есть для тебя работа, – наконец произнес он, передавая самокрутку обратно Миню.
24
1984 – Операция «Блуждающая душа»: Часть II – Бостон, США
Вместе с пятью другими воинами почетного караула сержант Джексон взял в руки флаг, которым был задрапирован гроб сержанта Миллера, и принялся аккуратно складывать его, тринадцать раз, звездами наверх.
Их обоих повысили в звании под конец службы, за два месяца до падения Сайгона. В Штаты они прилетели одним рейсом, и когда настал момент расходиться в разные стороны, по-братски обнялись. Когда проходишь через кровавую бойню, все остальное кажется безликим: пустые разговоры и бутылки в обшарпанных барах слишком резко контрастируют с густыми джунглями и оглушительными разрывами пуль, с товарищами, истекающими кровью у тебя на руках. Но они отдалились друг от друга, встречаясь раз в два года, чтобы выпить пива и предаться воспоминаниям. Юношескую, усыпанную прыщами кожу сменили морщины. Во время последней встречи обоим бросилось в глаза: их волосы поседели и стали тоньше, а животы и лица округлились.
Джексон очень осторожно складывал флаг, разглаживая хлопковую ткань кончиками пальцев, – полотнище скользило в его руках. Он задумался: Миллеру удалось пройти всю войну – пожары и обстрелы, бомбежки, болезни и бесчисленные ранения. Но не удалось избежать встречи с движущимся фургоном, так банально, 50 километров в час, даже не быстро несущийся, ничего такого. Его сбило насмерть как раз в тот момент, когда ранние лучи солнца забрезжили над горизонтом, в нескольких километрах от дома, где крепко спали его жена и ребенок. Конечно, до Джексона доходили сплетни, подрывавшие официальную версию. Уровень алкоголя и количество ксанакса, обнаруженное в теле его друга во время вскрытия, трезвость человека за рулем и его репутация осторожного водителя… Соседи рассказывали о криках Миллера по ночам, о том, как свет в спальне то включался, то выключался до самого рассвета, о пустых бутылках из-под виски, переполнявших мусорный бак.
Когда флаг уменьшился до размера маленького треугольника с синими и белыми звездами, Джексон вручил его Марте, вдове Миллера, и она приняла его с благодарностью.
– Спасибо, – сказала она. – Знаете, он всегда с любовью отзывался о вас. О тех днях, когда вы скитались по джунглям. – Она взяла за руки своего младшего сына, не отрывая от Джексона своего пристального взгляда. Сержант опустился перед ребенком на колени, чтобы погладить его по голове и пожать ему руку. Краем глаза он заметил старика в инвалидном кресле, и его сердце сжалось. Он перевел взгляд на мужчину, и стало ясно: они узнали друг друга.
На приеме лейтенант Смит рассказал Джексону, что незадолго до падения Сайгона его ноги парализовало от глубокой пули, угодившей в позвоночник.
– Сволочь, – сказал он. – Какой-то сантиметр в сторону, и я бы стоял на своих двоих, как молодой.
После привычных вопросов, историй о женах и детях, о жизни после войны, они поняли, что им больше нечего друг другу сказать. Разговор подошел к естественному финалу, и мужчины воспользовались паузой, чтобы опустошить свои бокалы. Джексон рассматривал дно своего стакана, в котором звенели кубики льда. Последние двадцать лет его мучил один вопрос, который они с Миллером часто допоздна обсуждали в баре, выдвигая различные теории, казавшиеся в конечном итоге нелепыми.
«Нам нужно написать лейтенанту Смиту и спросить у него, – предложил Миллер на их последней встрече. – Что мы от этого потеряем?» Джексон помнил, как тот, усмехаясь, откинулся на спинку стула и обратился к бармену: «Еще по одной, дружище!»
– Лейтенант Смит, – начал Джексон дрожащим голосом. В мгновение он превратился в молодого себя, двадцати одного года от роду, каким был тогда, испытывая страх перед начальником, страх сделать или сказать что-то не то. – В чем суть операции «Блуждающая душа»?
И лейтенант Смит оскалился той же улыбкой, что и двадцать лет назад.
– Во Вьетнаме есть одна традиция, – начал он. – Они верят, что мертвых нужно хоронить в их родном городе. Если этого не сделать, то души умерших будут прокляты и обречены на бесцельное блуждание по земле в виде призраков. – Он уставился на дно своего пустого стакана, и улыбка сменилась хмурой гримасой. – Их солдаты умирали. С каждым днем мертвых становилось все больше, и население не могло с этим справиться. Так же как и у нас. Они не могли позволить себе соблюдать предписанные погребальные обряды. И мы решили воспользоваться этим. Нам очень хотелось напугать узкоглазых, именно вьетконговцев, я должен отметить. Мы думали, что если проигрывать кассеты с записями, напоминающими голоса их мертвых товарищей, то это нагонит на них страх и деморализует.
Лейтенант Смит испустил долгий вздох, и Джексон понял, что перед ним старик, с согнутой спиной и давними воспоминаниями, и в этот момент он почувствовал, что и его годы берут свое. Самоуверенность молодости исчезла, черно-белое видение войны сменилось серой неразберихой. Джексон молчал, переваривая информацию и ситуацию, и его мысли уносились далеко.
– Понятно, – сказал он. – Я подозревал что-то вроде этого. Что-то вроде психологической тактики.
Джексон оглядел комнату. Во всей этой ситуации, похоронах товарища и его поминках, было нечто такое, что делало жестокость операции еще более вопиющей. Другие скорбящие перемещались по гостиной Миллера, в которой он еще неделю назад выпивал перед телевизором, что не ускользало от внимания ни одного из них. Сложенный флаг, почетный караул и оружейный салют. Разве они не верят в то, что мертвых нужно хоронить должным образом? Джексон осознал, что, будучи чужаком на их земле, он провел кощунственную операцию. Он потешался над ними и их убеждениями, которые не так уж сильно отличались от его собственных.
Он продолжал стоять неподвижно: на подставке в углу комнаты разместили портрет Миллера, слышались рыдания его вдовы, вокруг бродил их ребенок, и неожиданно Джексон снова вспомнил о кассете. Мучительные вопли погибших вдали от дома, в одиночку бесцельно слоняющихся по земле. Вспомнил о пьянстве Миллера, о его ночных кошмарах и задумался, можно ли быть одновременно живым и призраком, можно ли быть одновременно пробудившейся и потерянной душой.
– Мы действительно перепробовали все возможные способы, – добавил лейтенант Смит. Развернув инвалидное кресло, он отправился в бар за новой порцией.
25
Февраль 1985 – Лондон
Была уже почти полночь, а Тхань сидел рядом с ней, сцепив пальцы на затылке, и готовился к вступительным экзаменам. Ань принесла одеяло из комнаты и укутала плечи брата. Заголовок в газете, которую она взяла на вокзале, гласил: ШАХТЕРЫ ПРЕКРАЩАЮТ БАСТОВАТЬ.
За окном в свете уличного фонаря летели снежинки. Ань заглянула в учебник брата: треугольники, круги, цифры. Тхань бросил на нее взгляд «не мешай», и она снова уселась на свой стул, отхлебывая горячий чай из кружки. Брат не был в ряду лучших учеников, но и не относился к худшим, получал «хорошо», «удовлетворительно» и иногда даже «отлично», чаще всего по математике и физике.
– Может, мне удастся найти работу в сфере астрономии, – сказал он неделю назад. Собственные амбиции смутили его, как будто он только что поделился вычурной и нелепой фантазией, далеко за пределами его возможностей. – Там хорошо платят, – сказал Тхань, пожав плечами, – но слишком большая конкуренция.
Она гордилась его силой воли, тем, что он не сдался, как его брат.
Ань слышала, как он водит ручкой по бумаге и постукивает ногой, и ей хотелось помочь ему претворить мечты в жизнь. Но она понимала, что для этого ей не хватает знаний, и ее тайная, необузданная надежда на то, что братья станут всемирно известными учеными или бизнесменами, начинала угасать. Ей хотелось не столько денег или престижа, сколько чтобы их успех оправдал ее жертвы, придал ценность всей той работе, что ей пришлось проделать, чтобы кормить их на протяжении многих лет, чтобы ее больная спина и исколотые пальцы оказались всего лишь небольшими препятствиями на пути к большой цели. Если они трое не добьются здесь успеха, то гибель их семьи не имела никакого смысла.
* * *Минь гулял с друзьями, и Ань не ложилась спать – во-первых, дожидалась его возвращения, во-вторых, попросту не могла уснуть. За последние несколько лет она превратилась в полуночницу, и покой темноты приносил ей утешение. Братья давно обогнали ее в росте, и она донашивала свитер Миня с дырками под мышками и на локтях. Она начинала чувствовать себя все более бесполезной, даже обузой, больше непригодной как умственно, так и физически. Она разглядывала снежинки за окном, и они напомнили ей о катании на санках в Соупли. Опасения Миня и звонкие всплески радости Тханя, добрые подбадривания Эвансов и Софи. С тех пор они больше не садились в санки. Снег шел каждый год, но их восторг по этому поводу уменьшался, а холод скорее обременял, чем радовал.
Ань не знала ни друзей Миня, ни чем они зарабатывают на жизнь, а он отказывался с ней этим делиться. Но она отлично знала запах, окутывавший его, когда он возвращался поздно вечером, – не настолько глупая. Днем брат работал на полставки в супермаркете «Теско» на соседней улице и получал достаточно, чтобы не просить у Ань. Он спал на диване в гостиной: их кровать стала слишком тесной для трех повзрослевших тел, а потребность в уединении выросла. Ань ему не мать, и она мало что могла сделать; она не могла пилить его так, как это делала бы родительница. Ей не хватало авторитета, и она не пыталась заменить мать, боясь почувствовать себя ее жалкой копией. В основном Ань молчала, если не считать отдельных замечаний или вопросов. Она пыталась убедить саму себя, что жизни ее братьев ей не подвластны, что это уже не ее ноша, что они взрослые и следует их отпустить.
Тхань уже зевал, когда Ань отвлек от размышлений щелчок замка и скрип двери. На пороге стоял Минь, с покрасневшими пустыми глазами. Может быть, все из-за ее пространных мыслей, или пронизывающего холода, или усердия Тханя, которое он вкладывал в учебу, или ее голода, но этой ночью она решила, что не станет молчать.
– Где ты был?
Минь не ответил, молча открыл холодильник, пробежавшись взглядом по полкам.
– Молока нет, – констатировал он.
– Я же утром просила тебя купить. Серьезно. Это единственная просьба за всю неделю. И тыработаешь в продуктовом магазине.
Минь пробормотал извинения и налил себе стакан воды. Он стоял у раковины и пил, пока брат и сестра не спускали с него взгляда: Ань кипела от злости, а Тхань был на пределе сил. Поставив стакан в раковину, Минь взял банан из стоявшей рядом миски. Ань отправила Тханя спать, и тот после слабых протестов ушел, прихватив с собой ручки и книги. Она позволила Миню откусить от фрукта, пока собиралась с мыслями.
– Тебе нельзя допоздна шататься по городу в таком виде, – объявила она. – Это опасно. И тебе нельзя принимать наркотики, Минь. У нас еще нет гражданства. Ты знаешь, что будет, если тебя поймают? Нас могут выгнать!
Он долго жевал банан, прислонившись сутулой спиной к холодильнику. За окном просигналила машина, растревожив ночь, чей холод просачивался сквозь тонкие стены их квартиры.
– Ты эгоист. Ты хоть понимаешь, что будет, если мы вернемся во Вьетнам? У нас тамничего нет. Ты этого хочешь для Тханя? Для себя?
Его безразличие еще сильнее раздражало. Ань хотелось встряхнуть его, добиться хоть какой-то реакции. Но он продолжал стоять перед сестрой, не сводя с нее взгляда, его мысли невозможно было угадать, и когда он закончил есть, то спокойно сказал:
– Вместо того чтобы так беспокоиться обо мне и Тхане, может, пора начать беспокоиться о самой себе?
Таких слов Ань не ожидала и не поняла, что он имеет в виду. Ей не нужно было беспокоиться о себе. У нее была работа, друзья, иногда она даже ходила на свидания – вела совершенно нормальную жизнь. Хотя она и не могла отрицать, что после переезда в Лондон где-то в голове у нее поселился тоненький голосок, который оживился от слов Миня, – он твердил ей, что она делает недостаточно, что ее – недостаточно.
– Ты собираешься работать на этом заводе всю жизнь? – продолжал он. – Ты действительно веришь, что родители хотели для тебя именно этого?
– Почему-то ты не возражал, что я там работаю, когда нужно было платить за твою еду и одежду, – ответила она, ошеломленная его неожиданным обвинением и злобным тоном.
– Ты все время указываешь мне и Тханю, что нужно больше работать, но посмотри на себя, – сказал он, не обращая внимания на ее реакцию. – Ты даже не пыталась ничего сделать с собственной жизнью. Ты продолжаешь заниматься тем же, чем в Гонконге.
Его слова ранили Ань сильнее, чем все, что он говорил раньше. Она понимала, что это правда, что он облек в слова то, что она пыталась скрыть от себя на протяжении долгого времени. Работа на фабрике не приносила ей ни удовлетворения, ни счастья, она могла бы добиться в своей жизни большего, фабрика – ее выбор, а не судьба. Даже Биань открыла свой собственный бизнес по пошиву одежды, и теперь у нее были подчиненные и небольшая мастерская в Далстоне, где шили детские футболки. Ань знала, что Совет по делам беженцев может помочь ей найти другую работу или даже вернуться к учебе, Софи много раз повторяла ей это еще в Соупли. Но на фабрике она ощущала себя в безопасности, там она могла говорить по-вьетнамски, прятаться под высокой грязной крышей и представлять себе, что она на время очутилась во Вьетнаме. Ань не хотела искать работу в реальном мире, не хотела готовиться к тестам и сталкиваться с неудачей. Не хотела переживать отказ – ей уже отказали в собственной стране и в Америке. Все, чего она хотела, – это принятия, и фабрика приняла ее.
– Ты такая же неудачница, как и я.
Услышав эти слова, Ань оправилась от шока и рассердилась, пришла в ярость от того, что он посмел заявить подобное. Семь лет подряд она таскала его и Тханя повсюду, заботилась о них, мыла, кормила. Ей приходилось вытирать им слезы и подбадривать в школе, подталкивать к поиску друзей и помогать ассимилироваться. Пришлось отодвинуть собственные потребности на задний план, стать для братьев примером для подражания и опекуном, а теперь он швырял ей все это в лицо, словно комки грязи. Кружка дрожала в ее руках, тело было напряжено, а внутри кипела злоба.
– Я отдала тебе все. Мне пришлось это сделать, я о таком не просила. Я могла бы добиться гораздо большего, если бы ты не сдерживал меня. Ты отнял семь лет моей жизни.
Несмотря на пустой взгляд Миня, было ясно, что сказанное задело его, он сжал недоеденный банан в кулаке. Лишь только слова слетели с губ Ань, она тут же пожалела об этом и почувствовала, как на глазах наворачиваются слезы. Она вскочила со своего места, все так же держа в руках кружку. Скрип стула раздался в тишине комнаты, газета упала на пол. Ань пронеслась мимо брата в спальню, не глядя на него, и захлопнула дверь.
В своей работе «Эмоции как ценностные суждения» американский философ Марта Нуссбаум объясняет, что процесс горевания отличается в разных культурах. Среди ифаликов, жителей Каролинских островов, считается, что если не плакать громко в случае чьей-то смерти, то обязательно заболеешь. Поминки ифаликов наполнены плачем, «от низких стонов до громких надрывных криков и причитаний, исполняемых нараспев в стихах». На другом конце спектра находится культура балийцев, которые считают, что печаль вредит здоровью. Вместо того чтобы погрязнуть в отчаянии, они стараются поскорее забыть об уходе близкого, радуются жизни и отвлекаются на путешествия и прогулки.
В англосаксонских культурах с их христианским влиянием, где принято сохранять внешнее спокойствие, известие о чьей-то кончине часто встречается теми, кого она не коснулась, с умиротворяющими, завуалированными заверениями: «Он в лучшем месте», «Она теперь воссоединится [с другим умершим любимым человеком]» и «Смерть – это только начало». Фразы, хоть как-то намекающие на потусторонний мир, все еще звучат таинственно. «Хотя люди, твердо убежденные в существовании загробной жизни, тоже скорбят о смерти близких, обычно они делают это по-другому – их скорбь связана с надеждой», – объясняет Нуссбаум.
В индонезийском регионе Южный Сулавеси тораджанский народ хранит тела умерших близких, чтобы они могли жить с ними дома, иногда в течение десятилетий после их смерти. Для сохранения трупов в кожу вводят формалин, который оставляет сильный запах. За мертвецами ухаживают: их моют, дают еду и сигареты, а дети играют и общаются с ними в течение дня. Наконец, спустя месяцы, а иногда и годы, когда семье удается накопить достаточно денег, устраиваются пышные похороны. Родственники съезжаются со всего мира, в жертву приносят буйволов и свиней, а тела укладывают в семейные гробницы с деньгами и вещами, необходимыми для загробной жизни, в которую они вот-вот вступят. Каждые несколько лет тела вынимают из гробниц, чтобы снова привести их в порядок, сфотографировать, покормить и умыть, после чего празднование закончится и мертвые вернутся в свое место покоя.



