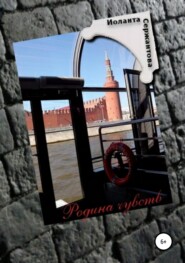 Полная версия
Полная версияРодина чувств
Жабчик был весьма немолод. От расслабленной дряхлости его спасало неустанное радение о ежегодном пополнении молодых и зелёных. Проблемы с глазом его почти не смущали. Сопровождая лягушат в большой мир, переводя их из мелкого пруда в бОльший, сдерживал прыть малышей подле левого плеча. Чтоб были на виду. А что до ужей, тех он не опасался. Стар для страхов, а ужам такое в глотку не полезет, ибо чересчур велик.
Как-то раз, направив последнего из лягушат в воду отеческим шлепком пониже спины, жабчик остановился передохнуть. Мимо летела бабочка, с явным намерением отложить-таки, наконец «эти яйца» и «покончить с этим делом».
– Хм-гм, – прочистил горло жабчик прежде, чем начать беседу, – позвольте вас побеспокоить, уважаемая.
– Да, – устало отозвалась бабочка, – говорите скорее. Я так вымоталась, отыскивая удобное место, что уже вовсе не чувствую крыльев. Кажется, если сяду где, то там же и упаду.
– Нет-нет. Не падайте где попало, уважаемая. Сделайте доброе дело, будьте так любезны. Если уж вам всё равно, где прятать ваши яйца, отложите их вон на той сосне, что неподалёку.
– Ну, мне не то, чтобы уж вовсе всё равно, но почему бы и нет. Не думаю, чтобы гусеницам, что покажут свои пушистые мордашки из яиц, не окажется чем утолить голод там, среди игл.
– Что вы, что вы! Уверяю вас! Там им будет чем поживиться!
– А там не слишком опасно, на этом дереве?
– Да как вам сказать…– замялся жабчик.
– И ещё, – отчего вам пришло в голову советовать мне лететь именно на сосну?
– Её зовут Пина…
– Кого?
– Сосну так зовут. Пина. И совершенно распоясавшиеся воробьи мучают её и летом, и зимой. А она так добра, что не может им отказать ни в насмешках над собой, ни в приюте. Когда это им нужно.
– А… Так вот оно в чём дело. Хорошо. Мои гусеницы смогут постоять и за себя, и за Пину, коли так. Хорошие люди должны помогать друг другу.
– Гм, прошу прощения. Вы сказали – люди?
– Конечно. Мы все люди, если поступаем по-доброму. Это ж так и называется: «по-человечески»!
Бабочка нежно коснулась бородавчатого лба жабы и полетела в сторону сосны…
Через положенный срок, на ветках, ничем не обнаруживая себя, расположились несколько безобидных на вид гусениц. Они безмятежно раскачивались, в такт задумчивому кружению юбки веток сосны.
Когда Пина заметила их впервые, расстроилась, опасаясь за свои кружева. Но гусенички поторопились её успокоить:
– Не пугайтесь, нас мама послала! Мы не причиним вам никакого вреда.
– А кто ваша мама? – спросила Пина.
– Бабочка…– ответили гусенички.
– Так это понятно, что бабочка. Как зовут маму?
– А мы не зна-а-а-ем, – захныкали гусеницы, – мы её не видели. Она нас тут оставила, сказала вас охранять, а сама улетела куда-то.
– Ой-ой, простите меня, дуру, малыши. Я знаю, куда полетела ваша мама, – Пина быстро сообразила, как успокоить ребятню. – Вы поживёте тут, у меня. И, если будете хорошо кушать и вовремя ложиться спать, то однажды проснётесь с крыльями за спиной и полетите к своей маме.
Каждому малышу Пина выделила свою отдельную ветку. На ветке спаленка, и столовая, и полка с книжками. Уютно и правильно. По утрам Пина умывала малышей, кормила и учила азбуке:
– Не ленитесь, ребятки! Вырастут у вас крылья, полетите далеко-далеко, увидите картонку с буквами у дороги и сможете прочесть, что на ней. «Опасно!» или «Добро пожаловать!»
Воробьи с подозрением наблюдали за вознёй в кроне сосны. Пина перестала выглядеть растерянной и виноватой. И это пугало птиц больше всего:
– Вот, затеяла что-то, наша волосатая. Не к добру это. Надо ей настроение выправить. В нашу с вами пользу.
Как задумали, так и сделали. Злое намерение снесло воробьёв с крыши, как крошки ветром. Присели они на ветки сосны, как бывало раньше, по-хозяйски, да не тут-то было. Глядят, а на каждой – по толстой зелёной гусенице.
Воробьи ухмыляются:
– Во, волосатая, угощение нам приготовила. Знает, кто тут важный! – и как только один из грубиянов попытался склевать гусеницу, так и отпрянул, – она плюётся!
И впрямь, едва воробей наклонился пониже, гусеница обрызгала птицу густым зелёным соком, да прямо в глаз.
– Жжётся! Чересчур! – зачиркал обиженно языком по нёбу воробей и прямиком к пруду, умываться. А там жабчик поджидает, на берегу:
– Ну, что, больно?
– Больно!
– Обидно?
– Да-а-а!
– А Пине, думаешь, не обидно было, не больно?
– Так мы ж её в глаза едким соком не брызгали!
– Вы ей душу едкими словами да поступками поливали. А это ещё больнее.
Задумался воробей, утёр лицо сухим листом вишни и улетел под крышу. Думать. Нужное это дело. Обдумывать слова и поступки. В тишине. Наедине с собой.
А гусенички хорошо учились, вовремя кушали, а перед сном слушали лесные сказки, которые рассказывала им Пина. И неким, как водится, прекрасным утром, тонкая леска рассвета потянула за собой прозрачную дымку тайны рождения, и с веток сосны, одна за другой, взлетели семь бабочек. Семь чудес света, о которых все знают, но никто никогда не говорит.
Каков ты на самом деле…
И не говорите мне, что они нас плоше!
Не ждите описаний природных увеселений, до которых вам и дела-то нет. Вы восхищаетесь вращению зеркальных шаров, но равнодушны к мельканию звёзд за окном. Не даёте себе труда понять, что всё, создаваемое человечеством – лишь повторение того, что уже совершено природой. Но как-то у нас оно всё – чересчур однобоко. Стремимся подражать полёту, но не копируем то, ради чего и был создан мир. Для чего он был-таки создан, спросите вы? Так для умножения любви и добра. Которого много вокруг и так мало в нас самих.
Три крошечных лягушонка попали в ведро с водой во время дождя. И было там воды всего-то на пару вершков. Но малыши – те пару дней, как лягушки, крошки ещё, и понимали о себе меньше нашего. Ёрзали ребятишки лягушачьи по на вдоль ведра, да по кругу. Ни до дна дотянуться указательным стройным пальчиком, ни до края ведра нет никакой возможности. Силёнки ещё не те. Опытности, попыток неполнота. Ни осмотрительности проглоченных ос, ни дотошности комариной, ни легкомысленной бабской лёгкости бабочек, когда всё – по плечу, не ибо, а на авось. Скреблись-скреблись лягушатки, да и перестали. Вода не сметана, масло не взобьёшь. Затихли смирно, висят плевочками дождя на поверхности. Нет-нет и тянет их в сон да на дно. Но – страшно. Встрепенутся, отобьются неумело лапками от того, кто их тянет вниз и вновь висят.
А тут случилось мимо ведра пробегать барбосу. Весь в репьях, лохмат больше меры, на шее галстух перегрызенной верёвки. Сразу видно – натура утончённая, свободолюбивая. Но и такие до «воды испить» снисходят время от времени. Обмакнул барбос бороду в воду, а оттуда на него три пары равнодушных к жизни глаз. Отпрянул пёс от неожиданности и уронил ведро на бок. Покатилось оно под горку и сковырнулось прямиком в пруд.
Коли бы раньше такой оказии приключиться, то-то лягушаткам радости было. А тут, – от усталости, с перепугу, под грохот карусели ведра, из почти горячей воды в холодную прудовую… И маленькими шариками, вверх нежно-белой манишкой, в шлейфе безвольных ладоней – на дно. Один за другим. Раз, два, три…
Нам-то, понятно, и дела нет. А жители водоёма всполошились. Чем поминать ещё не жившего? Одним званием?! А что видел, что говорил, кому помог, с кем водил дружбы хоровод? Не дело это, бросать на самотёк. Рыба нырнула, зачерпнула со дна ила поглубже, а с ним и лягушат. Всплыли они на поверхность. Глаза мутные. Ручками за край листа кувшинки цепляются, а взобраться нет сил. Но тут жаба подоспела. Ухватилась было за ножку, но скоро поняла – оторвёт. Перехватила нежно, под брюшко да прямо на покатый бережок и подкинула. Сиди, мол, грейся, малыш. Так всех троих и пристроила, сушиться.
Скажете, враки? Так то для нас, для людей, помочь другому – неудобство и хлопоты. А для иных…
Понятное дело, что не для всех оно так, но, пока не истратишь каплю себя на другого, то и не поймёшь, каков ты на самом деле.
Летний вечер
Август принялся устранять недоделки первых летних месяцев и, невзирая на протесты солнца, включил обогреватели на полную мощь.
Увядали цветы, ленились мошки, птицы вялили голосовые связки через широко открытый клюв, позволяя насекомым пролететь под его сенью и не очутиться в тени чрева. Люди, выбирали воду из колодцев до дна задолго до темноты. Всю ночь ручьи трудолюбиво и старательно наполняли их, но всё равно не успевали осалить14 верхнее кольцо потной ладонью.
Праздность мёдом растеклась по земле. Липкими сделались тела, мысли, веки…
Сумерки же, против обыкновенного, обнаружили в себе некие приятные свойства: прохладу и нежелание интересоваться чужими тайнами. Вот, именно этими новыми для летнего вечера качествами и воспользовались многочисленные обитатели леса.
Птицы пробирались к пруду, подолгу сидели по шею в воде, после отряхивались, не спеша и опасливо ходили по тропинкам. Слишком уж непривычным и многолюдным были эти ночные прогулки. Лягушки, охмелевшие от избытка тепла, покоряли намеченные днём вершины и перепрыгивая через скамьи и полуразрушенные стены старинного замка, промахивались в темноте мимо воды и громыхали вёдрами да лейками, позабытыми садовником. Можно сказать, что все, кто мог, слонялись бесцельно и основательно. Но могли не все. Муравьи, чьи прогулки при солнечном свете, неизбежно подвели бы итог их недолгой жизни скорее предопределённого, использовали плавное истечение дня в ночь для того, чтобы пополнить запасы и пережить следующий день взаперти муравейника. Несколько вечеров было истрачено на поиски подходящей провизии. И, когда наконец, дело пошло на лад, в дело вмешался вовсе неглупый ёж. Ему не было нужды менять свой распорядок. Дни он проводил, по обыкновению, валяясь в постели перед дуплом, отверстие которого паук занавесил экраном паутины, в которой постоянно кто-то плутал, путал слова, факты, что слетались сюда со всего леса. В общем, ёж спал под это бесконечное бормотание весь день и выходил размять ноги и перекусить уже в темноте.
В обычное время ему приходилось немало побегать, и обойти не одну лавку, чтобы отыскать что-то, достойное его аппетита. Теперь же, крупные упитанные муравьи забредали в его столовую, не подозревая, что их там ждёт.
И вот однажды ёж стоял у тропинки, и поджидая муравьёв, грыз просохших до семечек жуков. Муравьи осторожно вышли из дома. Они быстро зябли и не слишком хорошо ориентировались в ароматах нахмуренного вечером дня. Им хотелось поскорее набить авоськи провизией и уйти. Но не тут-то было. Ёж преградил им дорогу. Недвусмысленно потянувшись в их сторону, он ухватил было одного поперёк туловища, но промахнулся, да так, то муравей, зацепившись, повис у него на губе. Ёж мотнул головой, чтобы закинуть муравья к себе в рот, как макаронину, но тот отлетел в сторону, оставив ногу ежу…
– Тьфу ты, – раздосадованно сплюнул ёж, – тоже мне, окорочок. – и пошёл прочь.
Всю ночь, до самого рассвета, муравей искал своего раненого приятеля. Бесстрашно заглядывал в паучьи норки и расспрашивал лягушек. Будил их, щекоча дряблые щёки, – не видели ли они где невысокого парнишку в чёрной кепке.
Когда муравей обежал всех, кого мог, но так и не нашёл друга, он сел в траву и заплакал. Солнце спросонья не разобрало причину слёз. Но как только ему стало ясно что к чему, то указало оно тонким загорелым пальчиком на тёмную веточку неподалёку от тропинки. Это и был муравей, который лишился лапки. Он почти окоченел от боли и едва мог говорить.
Промокнул муравей слёзы пуховкой одуванчика, себе и другу. Погладил по лицу осторожно, поднял и понёс. Воробей и щегол, что стояли подле, спросили муравья:
– Куда ты его?
– Домой. Там ему будет лучше.
– А зачем? – удивились птицы. – Какой от него теперь толк?
– Он мой друг! – возмутился муравей.
– А кто его будет кормить? – спросили птицы.
– Я буду. И его, и за него. Разве неясно?
Ясно стало и птицам, и дню, и всем, кто видел это. Жаль только людям было как всегда недосуг рассматривать, что там внизу, под ногами. Слишком велики они для того, чтобы ответить на простой вопрос: дорожат ли люди друг другом так, как дрожат друг другом муравьи?
Другая бабушка
Порожнее ведро бьётся по колокольне колодца. Звонко, гулко, сочно: «Там-та-ра -рам! Та-да-ра-ра рам…» Кремлёвскими курантами в этой глуши звучат они. Но так бывает только утром. Пока не слышит никто. Неловко выдавать себя за другого. А таиться ещё плоше. Если чувствуешь силы на правильный перезвон, грешно не давать силе показать свою стать. Губчатые бетонные кольца впитали звуки тысяч пощёчин капель о воду. Наслушались натужного зубовного скрежета ворота и кандального звона пустобрёха – сидящего на длинной цепи ведра. Ручьи, утоляющие жажду постоянно пересыхающей глотки колодца, безразличны и надменны. Так равнодушен и высокомерен мир ко вступившему на его порог. С чем идёшь ты сюда, человече? С добром или…
– Васенька…братик…– плачет бабка в тридесятый раз. Глаза её, обращённые в пошлое15, как льдинки на фоне неба – голубы и полупрозрачны. – Не пришёл братик с войны.
Брат бабки погиб осенью 1914. В Первую мировую. Накануне её тринадцатилетия. Васеньке едва минуло 18. Они были ближе друг другу не только по возрасту. Семья жила в уединённой общине норманнов16 на берегу реки. Девочек и мальчиков учили работе по хозяйству с малолетства. К пяти годам они уже умели убирать, готовить, поддерживать чистоту в жилище и подле него. А с пятилетнего возраста дети начинали трудиться по-настоящему. Основным ремеслом северных людей было плетение из прутьев и коры ивы. Корзины, кувшины, туеса, короба, лапти и коробочки. Все члены общины принимали участие в этой работе. Заготовка коры дело нелёгкое. У девочки все пальцы были исколоты, и Васенька, жалея сестрёнку, старался взять большую часть работы на себя. Ну, а уж плели-то они все вместе, по-семейному. Плели и пели. Время от времени выходили порыбачить. В путину добывали осетров, севрюгу, стерлядь. Саму рыбу вялили, варили, а позвоночную струну, вязигу, высушивали на воле и связывали в косицы, сохраняя на зиму. Чтобы в самые морозы побаловать себя пирожками с начинкой из неё.
Сидят, бывало, голосом песню вьют, пальцами мастерят корзины. С рассвета до темноты. Заметит мать, что у дочки пальчики устали, онемели, и отправляет её передохнуть:
– Иди-ка, передохни, Прасковьюшка, пирогов напеки.
И та бежит, радостная, отдыхает, лепит проворно пирожочки махонькие, с лучком да с вязигой.
Как набиралось товару в достатке, набивал отец баркас доверху корзинками да туесами и отправлялся в Ярославль на ярмарку. Младшие дети просились с ним, интересно им было, что в большом мире делается, как люди живут.
Норманны народ строгий, молчаливый, но любознательный. Грубых слов не говорили ни промеж собой, не с чужими. Если со стороны посмотреть – то ли зол человек, то ли недоволен. Но ни тоном, не жестом неприятия не выказывает. Странные они, норманны. Водки не пьют. Если улыбаются кому, то лишь промеж собой. Да так ласково, приветно. Будто солнышко из-за тучки выглядывает.
Но, ежели кто сторонний подле, – вновь пасмурным и неопределённым делается лик.
По причине нежелания родниться с чужаками, все жёны приходились супругам сёстрами в третьем да четвертом колене. Итогом кровосмешения стало угасание общины. А события, произошедшие в начале двадцатого века, уничтожили её.
Когда Германия объявила Российской Империи войну, норманны, как истинные воины, отправили своих лучших сынов защищать Родину. А, пока те отдавали свои жизни на полях сражений, оставшиеся дома, погибали от тифа и голода.
Один за другим уходили в небытие молодые и старые, и довольно скоро изо всего поселения в живых осталось только двое – Прасковья и её отец, Роман Кондратьевич. Кинуть родной край, переехать насовсем, они не могли. Надеялись на возвращение Васеньки с фронта. Но сидеть, ожидая голодной смерти, было неразумно. И Роман Кондратьевич решил добыть хлеба в дальних краях, обменяв его на всё ценное, что можно было отыскать в доме. Оставить дочку одну он не мог, поэтому пришлось им ехать вдвоём.
Прасковья Романовна не помнит, где были они с отцом, откуда везли мешок, наполненный хлебом, как надеждой на то, что жизнь не совершит ничего страшнее того, что уже произошло. Домой они возвращались по железной дороге, взобравшись на крышу вагона. Роман Кондратьевич не смыкал глаз, оберегал дочь и добычу. Спать было нельзя. В лучшем случае, был бы украден хлеб, в худшем – их столкнули бы с крыши на ходу. Ладно бы обоих, а то – его одного. И что тогда станет с любимой дочкой? На одной из остановок, им встретился однополчанин Васеньки. Он-то и сообщил страшную весть о его гибели. А хлеб в тряске дороги рассыпался на крошки…
Наутро после того, как отец и дочь добрались до дома, Роман Кондратьевич почувствовал, что ему сильно нездоровится. Тиф зацепил своим чёрным крылом. Не желая пугать дочь, крепился некоторое время, а когда понял, что жить осталось недолго, повёл свою родненькую на берег реки, привязал к плоту и пустил по течению.
– Не бойся. Тебя спасут. Помни, кто ты. – Вот и всё, что мог сказать последний мужчина из племени норманнов своему последнему ребёнку.
Прасковья Романовна. С детства я называла её только так, по имени-отечеству. Ни небрежное «ба», ни нежное «бабушка» не подходили к её странному облику. Холодный непроницаемый взгляд. Крепкие пальцы, широкие ладони, квадратная не женская фигура. Её рост едва достигал полутора метров. Умение терпеть, ждать, помнить и любить, – вот что отличали эту низенькую старушку от других.
Казалось, она любит всех внуков, кроме меня одной. Но временами она глядела в мою сторону так, как не смотрела больше ни на кого. Холодные газа таяли в лучистой улыбке, и она подмигивала мне:
– Движение – это жизнь!
К чему? Зачем…
Бабка жила, за ушедших рано родителей и братьев. Немногим дольше того, кто распробовал вкус бытия и, набив им оскомину, притворно утомлён. Пережив две мировые войны и крах двух государств, она помнила все песни, которые знали в их семье. Часто поминала брата Васеньку и отца, Романа Кондратьевича. За занавесом заката, из её комнаты слышалось пение. Бабка расписывалась крестиком, так и не выучилась читать, а вот петь она умела.
Когда, в недобрый час, бабка занемогла, хирург, сделав длинный надрез на её животе, отказался продолжить начатую операцию, сославшись на возраст пациентки. Бабку прикрыли простынкой, вывезли в коридор и оставили там умирать, с распоротым брюхом. Так небрежно бабка часто называла свою утробу. Она умирала долго и мучительно. Сердце гоняло чистую кровь севера размеренно и настойчиво, пока сознание не прекратило мучения и боль одним разом.
Много лет спустя, руководствуясь побуждением, непонятным мне самой, я набрала обломков гранита и стала мастерить нечто, наподобие крепостной стены. Войдя в раж, насобирала мха и со тщанием и волнением, неизведанным доселе, промазала им все трещины и неровности меж камнями…
– Чтобы не сквозило.,. – резюмировал отец, который наблюдал за моими действиями. – Ты в курсе, что так утепляли дома твои предки?– добавил он.
– А кто они? – поинтересовалась я.
– Норманны. Моя мать, твоя бабка – стопроцентный норманн.
И отец поведал мне о том, что, когда-то давно рыбаки наткнулись на плотик, прибитый волной к берегу, и бабку, привязанную к нему. Бабку приютили, выходили. Она устроилась на работу в столовую, посудомойкой. В 27 лет встретила деда, через пару лет они поженились, а когда решили завести детей, оказалось, что это невозможно. Врождённый дефект, результат кровосмешения нескольких поколений, лишил её органа, необходимого для вынашивания ребёнка.
Хирург 90-х убил её, хирург 30-х совершил чудо и создал искомое. После чего, один за другим, на свет появилось двое детей. Максимально возможное количество из обещанного доктором. Он не дал прерваться роду, имеющему многовековую историю.
– Теперь ты знаешь…– завершил свой рассказ отец.
Только, что было мне с того? Теперь-то!
Когда отрезаешь ломоть домашнего хлеба, широкий, во всю буханку, он податливо гнётся навстречу, ластится. И ты невольно улыбаешься ему. Душа наполняется счастьем. Глаза кровоточат невыплаканными сердечными слезами. Отстраняя ненадолго начало трапезы, глядишь на этот кусок и видишь, словно наяву: большой мешок крошек, и маленькую девочку, что едет на крыше вагона, прижавшись к отцу.
Право на жизнь
Солнце явно намеревалось нырнуть в омут вечера. Его манила прохлада и мягкое прикосновение ванны наполненного облачной пеной горизонта. Понежится в промежутке меж пошлым17 и будущим, передохнуть немного и, – в гору утра.
Солнце то взбирается к вершине зенита, то катится к подножию дня. Не торопится, не медлит, всё своим чередом. Но вдруг, – ухватилось за ломкую печную трубу крыши дома, что стоит, одним боком облокотившись о стену леса. Странные звуки, идущие с поверхности земли, заставили запнуться течение жизни. Перегородили его, словно плотиной и округа постепенно заполнилась половодьем жаркого света.
– Ба-бах! Бах! Хрясть! – щурит свой румяный лик Солнце, но не разберёт никак, что за шум там, внизу. Взмокло светило. Утёрлось тучкой, пустило по ветру в сторону речки и в путь, догонять самого себя. И потянулся свет ручейками, промеж сосен, оставил после себя небольшие озёра зарослей чистотела и крупные капли одуванчиков.
Ну, а нам-то что, мы не звёзды, нам позволено осмотреться, отдышаться и попытаться понять, что к чему.
–Бабах! Ба-а-ах! Хрясть-ть!– раздалось вновь.
– Слушай, сосед приехал, что ли?
– Почему?
– Да, слышишь? С его двора шум?
– Не-а.
– Да прислушайся!
– А, и правда! Как будто бы кто-то дрова рубит.
– Но ты соседа видела?
– Нет…
– Пойду посмотрю, кто там. Сходить?
– Обязательно сходи, только аккуратнее, смотри под ноги, змеи там.
Лис жил во дворе дома третий год. В иное время он не стал бы так рисковать. Но после череды засушливых лет, отыскать мышей в лесу становилось всё труднее. Прошло то время, когда гнус18, семенящий серыми ручейками друг за другом, украшал любой поваленный ствол. Теперь лишь подле человеческого жилья всегда было чем поживиться и грызунам, и тем, для кого они – дежурное блюдо. Ежам, ужам, волкам, совам, лисам.
Вопреки расхожему убеждению о том, что главное лакомство для лис – курятина, нашему Рыжику, как окрестили его местные жители, приятнее было проглотить лягушку, чем возиться с бабским кудахтаньем несушек и давиться их жёстким оперением . Нетипичный норов лиса пришёлся людям по нраву. Его не гнали от домов и даже прикармливали. Засохшие корочки сыра, остатки подкисшего теста, подпорченные яйца, – всё шло на холостяцкий стол лиса. Брезговал он только засохшими горбушками покупного хлеба. Они покрывались не целебной зелёной плесенью, а страшной чёрно-жёлтой, на которую было неприятно даже просто взглянуть, не то, что есть её.
Каждую ночь Рыжик обходил дозором дома. Подстерегал припозднившихся мышей у крыльца и казнил, без суда и следствия. Перед рассветом, сытый, закусывал тем, что приносили люди. Больше всего ему нравилось сырое тесто. От него немного щипало в носу, но зато в животе становилось легко и приятно.
К рассвету Рыжик забирался во двор давно пустующего дома и дремал. В забытьи он вздрагивал всем телом, тихо и жалобно тявкал, быстро перебирал ногами и часто дышал. В какой-то момент замирал и из-под плотно сомкнутых глаз ручьями текли слёзы. Муравьи тотчас же принимались собирать капли, щекоча его мелкими ступнями, чем неизменно будили лиса. Рыжик чихал, муравьи разлетались в разные стороны, а лис шёл к колодцу, где специально для него люди держали воду. Вода всегда, даже в самый жаркий день, была чистой и свежей. Каждый, кто приходил к колодцу, отливал немного из своего ведра в наполовину зарытую глиняную крынку с шершавым широким горлом. Лис лакал и поглядывал по сторонам. Ему не хотелось быть застигнутым врасплох. Несмотря на явное расположение к нему людей, у него не было причин любить их всех. Оправданием сему обстоятельству служил страшный случай, произошедший четыре года назад.
В его жизни была красивая история настоящей любви. Настоящее иным и не бывает, впрочем. Если сам лис был довольно крупным парнем, с тёмной, почти серой грудью и янтарными глазами, то его избранница не отличалась статью, не хвалилась яркими нарядами. Она была милой, скромной и застенчивой лисичкой. Ухаживания Рыжика восприняла как должное. По причине ли своей доверчивости или вследствие безграничной наивности – непонятно. Но ей казалось, что, коли такой рассудительный и видный парень обратил на неё внимание, то она того достойна. Хотя, кумушки, что приходили на реку, рассуждали иначе:



