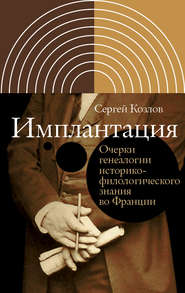
Полная версия:
Имплантация
~~~~~~~~~~~
«The Two Cultures» – название известного эссе Ч. П. Сноу, посвященного этому разделению (окончательный вариант – 1964). По отношению к французской реальности XVIII века такое представление оказывается опережающим: в самом деле, в прочерченную Ланозом жесткую дихотомию не вписываются ни Фонтенель (бывший одновременно и членом Французской академии, и постоянным секретарем Академии наук), ни Вольтер, ни Дидро, ни д’Аламбер; не вписывается в нее и сам замысел «Энциклопедии». Но, во-первых, из всех перечисленных фигур к моменту речи Ланоза в полной мере заявил о себе лишь Фонтенель; во-вторых же, и Фонтенель, и Вольтер, и Дидро, и д’Аламбер именовались «литераторами» или «философами», но ни один из них не именовался «эрудитом». Между тем именно «эрудиты» составляли контингент Академии надписей, и по отношению к «эрудитам» выдвинутое Ланозом противопоставление «словесников» и «научников» работало практически безупречно.
~~~~~~~~~~~
Речь Ланоза заслуживает пристального внимания потому, что ее исходные тезисы (приведенные нами выше) стали опорными точками последующей рефлексии о соотношении наук и словесности. Эта рефлексия разворачивается прежде всего в академических речах, но также и в журналистике, и в словарных статьях (материалы к библиографической сводке этих сочинений см. в [Cioranescu 1969, I, 171, № 5771–5776]; [Caron 1992, 42–74]. Показательно, что формулировки Ланоза были дословно повторены (без прямой ссылки на источник) двадцать лет спустя в «Энциклопедии», в статье «Lettres» и в статье «Sciences»: обе статьи принадлежали перу шевалье де Жокура. Таким образом, можно утверждать, что формулировки Ланоза вполне репрезентативны: они отражают представления о науках и словесности, господствовавшие во французской культуре XVIII века.
Четыре патронировавшиеся французским королем академии – Французская академия, Академия художеств, Академия наук, Академия надписей и изящной словесности – благополучно существовали до 1789 года. С началом Революции началось и постепенное урезание их прав. В 1792 году стал обсуждаться вопрос о полном упразднении этих академий; как писал Жильбер Ромм в своем докладе об общественном образовании (декабрь 1792),
существование этих привилегированных корпораций оскорбляет все наши республиканские принципы, покушается на равенство и на свободу мысли, вредит поступательному движению искусств. Но если организация их порочна, то составные их элементы хороши и пригодятся нам в новом устроении общественного образования, которое нам предстоит декретировать (Цит. по [Leterrier 1995, 4]).
Последнее заседание Академии надписей и изящной словесности состоялось 2 августа 1793 года. Через неделю, 8 августа, декретом Конвента «все академии и литературные общества, имеющие патент от Нации или получающие поддержку от Нации» были упразднены. В последующие месяцы пять членов Академии надписей были гильотинированы. В общем и целом Революция нанесла по историко-филологическим изысканиям во Франции удар такой силы, что в 1810 году бывший непременный секретарь Академии надписей, а в описываемую эпоху секретарь класса древней истории и литературы Французского института Жозеф Дасье констатировал невозможность возобновить издание большинства сборников академии за неимением сотрудников [Halphen 1914, 3].
В 1795 году началось предсказанное Роммом использование «полезных элементов» академической структуры в рамках новой организации – Национального института наук и искусств. Законом от 3 брюмера IV года Республики (25 октября 1795 г.) Национальный институт подразделялся на три класса: 1) физические и математические науки; 2) моральные и политические науки; 3) литература и изящные искусства. Консульским постановлением от 3 плювиоза XI года (23 января 1803 г.) структура Института была изменена. Отныне Институт насчитывал четыре класса: 1) физические и математические науки; 2) французский язык и литература; 3) древняя история и литература; 4) изящные искусства. В этой структуре уже без труда угадывается прежний набор из четырех королевских академий. Заново преобразованные четыре класса наделялись той же автономией, какой пользовались до революции королевские академии, но при этом классы по-прежнему являлись составными частями единой корпорации – Института. Классы вновь стали именоваться «академиями» при Реставрации. Ордонансом Людовика XVIII от 21 марта 1816 года классы получили соответствующие имена прежних четырех академий, но при этом был сохранен Институт: четыре академии стали его составными частями. Наконец, ордонанс Луи-Филиппа от 26 октября 1832 года учредил в составе Института пятую академию – Академию моральных и политических наук; тем самым академические учреждения Старого режима были в полной мере синтезированы с нововведениями революционной эпохи. Эту пятичленную структуру Французский Институт сохраняет и сегодня.
Кратко охарактеризовав Академию надписей и изящной словесности, мы должны теперь уделить внимание Академии моральных и политических наук. В контексте нашего очерка она заслуживает особого внимания уже по той простой причине, что само понятие моральные и политические науки (sciences morales et politiques) нарушает четкую дихотомию науки vs. словесность – дихотомию, которая, как мы пытались показать, составляла один из важных параметров функциональной матрицы французской культуры.
Сначала скажем несколько слов о «первом издании» Академии моральных и политических наук – просуществовавшем семь с небольшим лет (с 1795 по 1803 год) Классе моральных и политических наук Национального института наук и искусств. Согласно декрету от 3 брюмера, Класс моральных и политических наук подразделялся на шесть секций: 1) анализ ощущений и идей; 2) мораль; 3) социальная наука и законодательство; 4) политическая экономия; 5) история; 6) география. Каждая секция должна была насчитывать шесть членов. 20 ноября 1795 года получили назначение первые 12 членов, которым предстояло составить ядро этого Класса. В секцию анализа ощущений и идей были зачислены Вольней и Левек де Пуйи, в секцию морали – Бернарден де Сен-Пьер и Мерсье, в секцию социальной науки и законодательства – Дону и Камбасерес, в секцию истории – Левек и Делиль де Саль; в секцию географии – Бюаш и Мантель. Среди прочих 28 членов, впоследствии дополнивших состав Второго класса (так назывался в те годы Класс моральных и политических наук), было и 11 членов прежней Академии надписей, но, как отмечает Софи-Анн Летерье, «идеологи в этом учреждении имели численный перевес над эрудитами» [Leterrier 1995, 12]. Сама идея моральных и политических наук, как и вся организационная матрица Института наук и искусств, восходила к докладу Кондорсе об общественном образовании, составленному по поручению Законодательного собрания в 1792 году (анализ докладa Кондорсе см. [Liard 1888–1894, I, 150–163]). Напомним, что до Революции Кондорсе являлся непременным секретарем Академии наук, и вся суть его философского проекта, вполне оформившегося к началу 1780‐х годов, состояла в распространении подхода точных и естественных наук на сферу человеческих дел. Это позволяет вполне обоснованно считать Кондорсе провозвестником идеи социальных наук. В инаугурационной речи во Французской академии в 1782 году Кондорсе говорил о «тех науках, почти что созданных с нуля в наше время, предметом которых является сам человек; прямой целью которых является счастье человека» (см. [Baker 1988, 115]). Кондорсе разделял со своими американскими друзьями Франклином и Джефферсоном мнение Юма о том, что политика должна быть сведена к науке. Судя по всему, Кондорсе был первым, кто употребил на французском языке выражение science politique (см. [Kernell 2003, 19]). Помимо определяющего влияния идей Кондорсе на организационную матрицу Института, следует подчеркнуть роль традиции философского сенсуализма, восходившей к Кондильяку и далее к Локку; институциональным воплощением этой традиции стала в Классе моральных и политических наук секция анализа ощущений и идей. Неслучайно членом секции (по рекомендации Кабаниса) был избран бывший военный, а теперь начинающий философ Дестютт де Траси; именно доклады Дестютта на заседаниях секции составили впоследствии основу его книги «Начала идеологии». Сенсуалистическое понимание интеллектуальной деятельности человека создавало предпосылки для экспансии естественнонаучного подхода на территорию, ранее считавшуюся законным доменом «учености». В целом деятельность Класса моральных и политических наук означала, во-первых, шаг в направлении институциональной автономизации философского знания – как знания научного, стоящего в одном ряду со специфическим знанием, характерным для точных и естественных наук. Во-вторых же, для знания историко-филологического деятельность Класса моральных и политических наук означала «перевод стрелок»: из-под опеки изящной словесности историко-филологические занятия были переведены под опеку философии.
Но это продолжалось недолго. Наполеон (в силу политических разногласий питавший с 1802 года неприязнь к группе Дестютта и, согласно некоторым свидетельствам, введший в широкий обиход само слово «идеология» – в качестве уничижительной клички для теорий, оторванных от жизни) ликвидировал в 1803 году Класс моральных и политических наук. Вместо него был создан Класс древней истории и литературы, что означало поражение философии в правах, формальную автономизацию историко-филологического знания и фактическое возвращение историко-филологического знания к привычной эпистемологической рамке Академии надписей и изящной словесности.
Официальное возвращение в 1832 году к понятию моральные и политические науки, выразившееся в создании (или, как часто говорят, воссоздании) Академии моральных и политических наук (далее – АМПН), было всецело делом рук Франсуа Гизо и его «сопластников». Как показал Э. Миро (Mireaux 1957), создание АМПН стало первым действием Гизо на посту министра образования: Гизо был назначен министром 11 октября 1832 года – а уже 26 октября Луи-Филипп подписал ордонанс об учреждении АМПН.
АМПН была осуществлением давнего проекта партии доктринеров. Об этом свидетельствует письмо Гизо к Баранту от 24 января 1824 года:
Виктор [де Брой], Огюст [де Сталь], Шарль [де Ремюза], Кузен, Дюмон, г-н Лебрен (автор «Марии Стюарт»), еще несколько человек и я хотели бы образовать, без шума, без титулов, маленькое общество моральных и политических наук, которое старалось бы поддерживать и направлять зарождающееся движение к новым идеям в философии, в публичном праве, в истории литературы. Оно распределяло бы несколько премий, способствовало бы напечатанию определенного числа ценных сочинений или хороших переводов, молодые и неизвестные авторы которых не могут самостоятельно пробиться к известности; оно вело бы переписку с людьми в департаментах, интересующимися тем же кругом идей; оно стало бы маленьким центром более широких и более либеральных мнений, к которым начинает сейчас приобщаться не столь малое количество людей, но приверженцы этих мнений пока что разрознены, не имеют точки опоры, не поддерживают и не поощряют друг друга (Цит. по [Pouthas 1923, 355]).
И Гизо, и Барант, и Брой, и Кузен, и Ремюза принадлежали к ядру партии доктринеров. Дюмон и Лебрен примыкали к доктринерам.
Как отмечает Софи-Анн Летерье [Leterrier 1995, 62], проект, реализовавшийся наконец в 1832 году, основывался на трех идеях, дорогих сердцу всех доктринеров в целом и Франсуа Гизо в особенности. Это были: 1) идея о возможности «моральных наук», которую Гизо постулировал в своем курсе новой истории в 1820 году, а также и в курсе 1829 года «История цивилизации во Франции»; 2) тезис о том, что моральные науки не являются самоцелью, а призваны служить политическому действию; 3) тезис о том, что единственно законным правлением является правление разума; что единственно подлинным представительным правительством является правительство, опирающееся на способности всех членов общества.
Публичное обоснование проекта АМПН содержалось в неподписанном письме королю о восстановлении АМПН, которое напечатал «Le Moniteur» 24 октября 1832 года. Авторство этого письма приписывается либо Гизо, либо Ремюза. Автор письма ссылается на положительный опыт работы Класса моральных и политических наук, указывает, что его учреждение в 1796 году всецело соответствовало духу современной эпохи, а затем подчеркивает политические причины как ликвидации вышеназванного Класса в период Консульства, так и отказа его восстановить в период Реставрации. Класс моральных и политических наук, согласно автору письма, был подозрителен обоим вышеупомянутым режимам именно в силу своих достоинств:
Когда принципы правительства не согласуются с правами человечества, приходится опасаться самого разума; разум может обрушить такое правительство даже безо всяких заблуждений; разум может тревожить такое правительство даже тогда, когда он и не собирается на него покушаться (Цит. по [Leterrier 1995, 63]).
Таким образом, акт создания/воссоздания АМПН нес в себе совершенно определенную политическую символику. Преемственность АМПН по отношению к институции 1796–1803 годов выразилась и в том, что все дожившие до 1832 года члены Класса моральных и политических наук – за исключением членов секции географии, которая к тому времени влилась в состав Академии наук, – были включены в состав АМПН. В силу выбытия секции географии общее число членов АМПН сократилось по сравнению с Классом моральных и политических наук на 10 человек. По ордонансу от 26 октября, АМПН насчитывала 30 членов и состояла из пяти секций: место прежнего «анализа ощущений и идей» заняла просто «философия»; «социальная наука и законодательство» превратились в «законодательство, публичное право и юриспруденцию»; прежняя «политическая экономия» стала «политической экономией и статистикой»; прежняя «история» превратилась в «общую и философскую историю». С.-А. Летерье квалифицирует такую переработку прежней дисциплинарной структуры как «спиритуалистическую или, во всяком случае, открыто антисенсуалистическую» [Op. cit., 64].
Если рассматривать деятельность АМПН не как совокупность отдельных трудов той или иной (иногда – несомненной) ценности, а как некоторое целое, то можно констатировать относительное фиаско АМПН как в среднесрочном, так и в долгосрочном масштабе. В среднесрочном масштабе деятельность АМПН за период с 1832 по 1850 год была проанализирована С.-А. Летерье. Подводя итоги функционированию АМПН как целого за этот период, исследовательница делает следующий вывод: «Можно лишь поражаться разрыву между первоначальными амбициями этого учреждения и достигнутыми результатами» [Op. cit., 333]. Летерье перечисляет целый ряд факторов, приведших к такой пробуксовке АМПН: это и тип рекрутирования новых членов, опиравшийся на кооптацию и тем самым поощрявший застойные тенденции; и субъективный фактор личности Виктора Кузена, по-диктаторски контролировавшего все институциональные процессы не только в дисциплинарном поле истории, но и во всей сфере «моральных наук»; и унаследованная АМПН «от рождения» опора на устаревшие типы коммуникации (академические и политические кружки и светские салоны), не соответствующие условиям демократического общества; и политическая ангажированность АМПН, ее изначальная связь с орлеанской династией, очень быстро (особенно заметно – с 1840 года) приведшая к утрате научной дистанцированности и к добровольному превращению «моральных наук» в орудие охраны существующего порядка. Как отмечает Летерье, «Академия с самого начала находилась в двусмысленном положении; эта двусмысленность была связана с необходимостью и невозможностью выбрать между наблюдающей и предписывающей позициями в моральном и политическом поле. Сами члены Академии отдавали столь четкий приоритет вопросам политическим, что он частично парализовал их научные усилия» [Op. cit., 334].
Эту врожденную уязвимость институциональных позиций АМПН остро ощутил и сформулировал Эрнест Ренан. Уже в своей записной книжке 1846 года 23-летний Ренан отмечал несовместимость «серьезного» понимания науки с манерой Гизо подчинять науку практическим интересам (см. ниже главу 3, с. 206). А в 1860‐х годах в статье о Французском Институте Ренан дает сжатую критику всей институциональной основы АМПН. Процитируем наиболее важный для нас пассаж:
Что касается философии, то об этой лакуне [об отсутствии особого подразделения философии в составе Французского Института в период до основания АМПН] не приходилось сильно сожалеть. Философия в наше время не является особой, отдельной наукой: она составляет общий дух всех наук. Довольно странно наличие в Институте секции из шести человек, которая называется «секцией философии». Во всяком случае, с некоторых точек зрения такая секция была бы более уместна в составе научной академии, чье призвание состоит в чисто теоретических изысканиях, нежели в рамках академии, составленной из должностных лиц, из политиков, из экономистов, из людей, занятых соображениями повседневной пользы и разработкой принципов общежития, потребных народам. ‹…› Что касается морали, то и здесь можно удивляться, глядя, как мораль рассматривают в качестве отдельной науки. Мораль не способна к прогрессу; в сфере морали не совершаются открытия. – Что же касается истории, то мы полагаем неудобным положение, при котором работа с подлинными документами отделяется от литературного и философского труда. Есть основания опасаться, что в будущем это приведет к раздроблению исторических изысканий на две отдельные отрасли: в одной будут компетентно работать палеографы, дипломатисты и филологи, а в другой – люди талантливые, но лишенные специальности. – Мы предпочитаем поэтому принципы разделения, применяемые в Берлинской академии, где наши две академии – надписей и моральных наук – составляют один общий класс, который можно назвать Академией наук о человечестве, в противоположность Академии наук о природе [Renan 1868, 128–129].
К мысли о пагубности институционального воздействия АМПН на развитие исторической науки Ренан возвращается и в очерке 1875 года «Гортензия Корню». Здесь «раздел исторических изысканий между Академией моральных и политических наук и Академией надписей и изящной словесности» назван в числе факторов, способствовавших понижению уровня исследовательских заведений во Франции в XIX веке [Renan 1947–1961, II, 1119–1120].
Если же обратиться к нашим дням и взглянуть на деятельность АМПН в долгосрочном масштабе, то и здесь мы видим признаки институционального фиаско. Процитируем искусствоведа и специалиста по рукописям Ренессанса Франсуа Фосье, автора книги «Французский Институт вчера и сегодня»:
Если дать определение деятельности различных секций Академии наук или Академии художеств было очень просто, то роль, которую играют различные секции Академии моральных и политических наук, остается размытой. Создается впечатление, что в конечном счете роль эта обусловлена самим набором ее членов, поскольку эта академия основывается на разнородном сочетании весьма различных лиц, отнесение которых к той или иной секции является порой случайным. Секция философии населена как философами, так и историками этой дисциплины, а равно и социологами. Секция морали и социологии, которая традиционно поставляла батальоны экзаменаторов для проверки работ, присылаемых на академические конкурсы, и батальоны ораторов для произнесения речей при вручении премий лауреатам этих конкурсов, теперь изменила свой облик: ныне ее ряды заполнены врачами, инженерами, бывшими государственными секретарями и философами. ‹…› Секция законодательства и права более однородна; в известной мере это секция благочестивых пожеланий и никем не слушаемых предостережений. ‹…› Секция политической экономии, с учетом тех экономистов, которые были зачислены в академию в качестве свободных членов, бесспорно является самой влиятельной в академии, даже если ее академическая деятельность сводится к минимуму. ‹…› Что касается секции истории и географии, то она занимает несколько особое место – во-первых, потому, что ее академическая деятельность является наиболее регулярной и систематичной; во-вторых же, потому, что она находится в неудобном положении, существенно отделяющем ее от остальной части академии. Как мы могли видеть, история во Французском Институте сводится к эрудиции или к историческим анекдотам; эрудиция является доменом Академии надписей и изящной словесности; исторические анекдоты скорее относятся к домену Французской академии. Поэтому ученые из секции истории и географии [АМПН] оказываются в межеумочном положении между этими двумя концепциями, которые не предусматривают места для них. Принадлежность к сообществу, составленному из моралистов, социологов и политических деятелей, заставила их попытаться назвать себя, как выразился один из них, [географ] Пьер Жорж [1909–2006], «специалистами по протеканию времени и по разделениям пространства». Такое определение остается достаточно смутным; тем не менее подобного рода мотивировки привели в 1884 году к избранию в Академию моральных и политических наук первого географа, Огюста Гимли, и к изъятию географии из ведения Академии наук. Историки же обозначили свою территорию хронологическими рамками и стали зачислять в свои ряды новых собратьев лишь в том случае, если те специализировались на периодах, идущих после XVI века. До Второй мировой войны такое распределение специальностей оставалось убедительным с историографической точки зрения: ученая история была достоянием древников и медиевистов; очень немногие эрудиты отваживались забредать в область новой и современной истории; эта область была владением политических мыслителей, которые видели в писании исторических трудов продолжение своей общественной жизни: таковы были в свое время Тьер, Гизо, Анри Мартен, а позднее – Эдуар Бонфу ‹…› Но за последние тридцать лет положение вещей сильно изменилось; новая и современная история стала вполне уважаемой отраслью исторической науки, она канонизирована как ученая дисциплина, которой занимаются все более многочисленные университетские профессоры; многие из этих специалистов достигли уже почтенного возраста и весьма желают стать членами Института. Объем секции, насчитывающей восемь членов, из которых три или четыре являются к тому же географами, решительно не позволяет должным образом почтить заслуги всех достойных, что, в свою очередь, ослабляет репутацию и аудиторию академии, которая вынуждена оставлять за своими стенами столько талантливых ученых. Это неприятное впечатление становится еще более неприятным, поскольку к нему добавляется ощущение, что если бы ты писал популярные книги по истории некоторых периодов, вызывающих интерес у публики, то у тебя было бы гораздо больше шансов стать членом Института – причем в этом случае ты попал бы не куда-нибудь, а в саму Французскую академию. Наконец, те весьма редкие историки, которые были избраны в Академию моральных и политических наук за свои специальные труды, – это университетские профессоры, по своему социальному происхождению, системе связей, образу жизни и финансовым средствам гораздо более близкие к своим коллегам из Академии надписей и изящной словесности, чем к дипломатам, политическим деятелям или экономистам, с которыми они соседствуют в своей академии. Отсюда возникает ощущение разорванности, которое иногда граничит с настоящим психологическим дискомфортом и которое завершается для членов исторической секции достаточно сильной изолированностью от прочих членов академии [Fossier 1987, 267–269].
Таким образом, понятие моральных и политических наук оказалось тупиковым. Все перспективное, что было в мечтаниях Кондорсе о «науках, предметом которых является сам человек», реализовалось помимо Академии моральных и политических наук. Успешное осуществление программы, намеченной у Кондорсе, началось лишь во второй половине XIX века: главным категориальным носителем этой программы стало понятие социальных наук; институциональными носителями этой программы стали в своей совокупности такие разные заведения, как Свободная школа политических наук, Национальный центр научных исследований, факультеты социологии, Четвертое отделение Практической школы высших исследований (ныне – Высшая школа социальных наук), а также и целый ряд периодических изданий (назовем лишь «Социологический ежегодник» и «Анналы»). Несмотря на то что понятие моральных и политических наук вот уже 177 лет как встроено в организационную матрицу Французского Института, невозможно сказать, что оно является частью базовой ценностно-функциональной матрицы французской культуры; по сравнению с элементами этой базовой матрицы (в частности, по сравнению с оппозицией lettres vs. sciences) понятие моральных и политических наук является слишком локальным, слишком размытым, слишком спорным. Оно было относительно бесспорным лишь для прогрессистски настроенной части французских интеллектуалов в период 1780–1830‐х годов. После этого периода понятие постепенно начинает восприниматься как сомнительное в самих своих основаниях.



