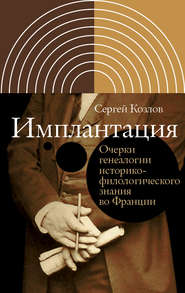
Полная версия:
Имплантация
Нетрудно увидеть, что выделенные нами выше черты «коллежского габитуса» идеально вписываются в габитус «человека приличного». Человек, умеющий изящно говорить на любую тему, при этом никогда не вдающийся в излишние подробности и не углубляющийся до бесконечности в какой-то один предмет, – это и был образцовый выпускник низшего учебного цикла иезуитских коллежей. И поведение «приличного человека», и поведение идеального оратора регулировалось одним и тем же высшим принципом – принципом уместности: принцип этот восходил к античным руководствам по поэтике и риторике. «Приличный человек» был одной из многих конкретно-исторических модификаций «риторического человека» – именно поэтому модель «приличного человека» оказалась идеально совместима с риторически ориентированным коллежским образованием. Поэтому и риторическое отношение к историко-филологическому знанию, которое впитывали в себя ученики иезуитских коллежей, оказывалось затем востребовано и закреплено в практике светского общения.
Чтобы сделать эту взаимозависимость коллежского образования и светского общения более наглядной именно в вопросе о применении «учености», обратим внимание еще на один – небольшой, но немаловажный – сектор коллежской системы, о котором мы пока что не говорили. Дело в том, что постепенно преподавание истории как самостоятельной дисциплины стало отвоевывать себе нишу даже в стенах иезуитских коллежей. Такая эволюция совершалась под давлением потребительского запроса, исходившего от аристократии, значимая часть которой желала дать своим сыновьям более «современное» и «приближенное к жизни» образование, нежели цикл классической словесности. Для детей из подобных высокородных семейств при некоторых коллежах (сначала у ораторианцев, а затем и у иезуитов) были организованы пансионаты (les pensionnats) – закрытые элитарные подразделения, где давалось свое, особое (так называемое комнатное, то есть гораздо более персонализованное) образование, сосуществовавшее под одной крышей со стандартным «классным» учебным процессом, но сильно отличавшееся от последнего по своему содержанию. Именно в рамках этого внепрограммного «комнатного» образования находит себе место, начиная с 1670‐х годов, и преподавание истории как отдельной дисциплины. Объем и направленность этой дисциплины оказываются существенно иными, нежели у исторического материала, привлекаемого к изучению в классах «humanitas» и риторики. Если там история ограничена античным периодом, то в пансионатах изучается не только и не столько античность, сколько история главных современных государств Европы. Если в классах история берется исключительно как часть риторики, то «в комнатах» историю изучают так же и как знание, служащее политическим целям, как часть науки властвовать. И тем не менее, несмотря на все эти совершенно специфические акценты «комнатного» образования, базовый коллежский габитус остается в силе и здесь. Приведем лишь один пример, но пример показательный, поскольку он касается центрального и самого престижного иезуитского коллежа – расположенного в Париже коллежа Людовика Великого[11]. В конце XVII – первых десятилетиях XVIII века историю здесь преподавал пансионерам отец Клод Бюфье. Главными сферами его интересов были богословие и философия: философию отец Бюфье преподавал в рамках общей учебной программы, учащимся второго цикла. На основе своих уроков истории отец Бюфье подготовил и выпустил в 1705–1706 годах учебник для пансионеров коллежа Людовика Великого. Учебник назывался «Практика искусственного запоминания, чтобы легко выучить и удержать в голове всемирную хронологию и историю». И вот как отец Бюфье обосновывал, обращаясь к юным аристократам, ценность исторического знания:
В каком только возрасте, в каком только звании, в каком только жизненном положении не будет человеку полезно и приятно держать в уме самые важные моменты священной и светской истории? Обладая таким преимуществом, в какой только беседе не сможет отличиться человек? (Цит. по [Brockliss 1987, 157]) (курсив наш. – С. К.).
Историю не исследуют – историю запоминают. Запоминают, чтобы при подходящем случае блеснуть эрудицией в разговоре. Знание истории ценно не как приближение к истине, а как преимущество в ходе беседы… Это все тот же габитус «приличного человека». Пансионатская подсистема иезуитских коллежей была нацелена на формирование этого габитуса не в меньшей, а даже в большей степени, чем классная подсистема: в классной подсистеме образование носило более выраженные черты «книжности», в большей мере культивировало «ученость» и, следовательно, таило в себе относительную опасность педантизма. Парадоксальным образом, именно в том секторе образовательной системы, где историческое знание смогло формально утвердиться как автономная дисциплина, – именно в этом секторе оно оказалось, по сути, наиболее гетерономизировано.
Как известно, открытость окружающему миру и установка на самое тесное сближение с придворными кругами всегда были отличительными особенностями иезуитского ордена. Неудивительно поэтому, что иезуитские коллежи стали главными кузницами «приличных людей». Каковы были объемы этого производства? Приведем несколько выборочных показателей. В 1627 году общая численность школяров, завершавших изучение цикла словесных дисциплин в иезуитских коллежах во Франции, составляла 1265 человек[12]. Тогда во Франции было всего 12 иезуитских коллежей. К 1675 году их число достигает своего максимума – 59 заведений[13]. Экстраполируя данные 1627 года на 1675‐й, получаем огрубленное представление о количестве выпускников низшего цикла в 1675 году: приблизительно 6200 человек. Эти несколько тысяч человек, выходцы частью из дворянства шпаги, частью из дворянства мантии, частью из крупной и средней буржуазии, были главным кадровым пополнением, вливавшимся каждый год в среду «приличных людей» – светских людей, умеющих блеснуть эрудицией, любящих изящную словесность, но не терпящих в своем кругу никакой специализированной коммуникации. Эти люди и составили критическую массу потребителей (и – отчасти – создателей) французской элитарной культуры XVII–XVIII веков.
Ален Виала, исследовавший социологию французской литературной жизни XVII века, говорит о появлении в XVII веке слоя «расширенной публики», находящегося между «народным» слоем (самым широким и маловлиятельным) и «слоем власти» (держатели контроля над знанием и текстами, максимум 2–3 тыс. человек). «Расширенная публика» – новоявленный средний слой, состоящий из дворян и обеспеченных горожан, в общей сложности несколько десятков тысяч человек [Viala 1985, 143–147]. Как пишет Виала, «эта расширенная публика ценила знание, но ненавидела педантизм. ‹…› Для расширенной публики безусловным социальным образцом является приличный человек. ‹…› Публика, состоящая из приличных людей, отвергает ученый дискурс во всех его формах» [Viala 1985, 147, 150].
Эта преломляющая среда внесла решающий вклад в закрепление, трансляцию и канонизацию габитуса «приличного человека»; в итоге этот габитус стал долгосрочной детерминантой французской элитарной культуры.
В XIX веке габитус «приличного человека» превратился в едва ли не главный психологический фактор, препятствовавший профессионализации и онаучиванию историко-филологического знания во Франции. О том, какая дистанция отделяла габитус ученого-гуманитария от габитуса «приличного человека», рассуждал в середине XIX века Эрнест Ренан. Свои размышления об амплуа «приличного человека» Ренан изложил в статье «Г-н де Саси и либеральная школа», напечатанной в августе 1858 года в «Revue des deux Mondes». Статья была посвящена фигуре Самюэля Устазаде Сильвестра де Саси (1801–1879). В отличие от своего отца, великого востоковеда Антуана Сильвестра де Саси (1758–1838), Сильвестр де Саси-младший был не ученым, а журналистом. В течение 20 лет он возглавлял газету «Journal des débats», а в 1854 году был избран во Французскую академию. В глазах Ренана он воплощение «приличного человека»:
Это не историк, не философ, не теолог, не критик, не политик; это приличный человек, который опирается лишь на свой здравый смысл. Этот прямой и надежный здравый смысл подсказывает ему мнения по всем тем вопросам, на которые другая часть людей ищет ответов у науки и философии. Историк примется опровергать его суждения; против них найдутся возражения и у поэта, и у философа – причем зачастую возражения небезосновательные; но здравый смысл тоже имеет свои права – при условии, что он не проявляет нетерпимости и не пытается стать преградой для чего-то очень оригинального [Renan 1947–1961, II, 29].
Здравый смысл делает Сильвестра де Саси превосходным моралистом, продолжает Ренан, но столь же ли благотворное воздействие оказывает этот инстинктивный здравый смысл на его литературные и исторические суждения? «На этот вопрос я не решаюсь дать ответа», – пишет Ренан с фирменной дипломатичной уклончивостью, которая была свойственна его публичным выступлениям. Говоря менее дипломатично: ответ был однозначно отрицательный. И далее Ренан со всей возможной дипломатичностью и объективностью противопоставляет интеллектуальные установки «моралиста» (читай: «приличного человека»), каким является Сильвестр де Саси, интеллектуальным установкам «критика» (читай: «ученого-гуманитария»), каким является сам Ренан (разумеется, слово «критика» употребляется здесь Ренаном в том философско-филологическом смысле, который это слово приобрело в Германии к концу XVIII века):
Моралист и критик обречены прийти к расхождениям по весьма многим вопросам. Моралист руководствуется инстинктивным ощущением того, что он считает наилучшим; критик руководствуется независимым и непредвзятым исследованием. Моралист никогда не колеблется в своих суждениях, ибо они вытекают из выбора, который был им сделан раз и навсегда и который опирался в гораздо большей степени на склад его ума, чем на беспристрастное и тщательное рассмотрение предмета. Критик же колеблется всегда, ибо бесконечное разнообразие мира предстает перед ним во всей своей сложности, и он не может решиться закрыть глаза на целые пласты действительности. Моралист не слишком любознателен, ибо он не считает, что его ждут важные открытия: на его взгляд, идеал добра и красоты осуществился в нескольких шедеврах, которые никогда не будут превзойдены. Критик находится в вечном поиске, ибо прибавление нового слагаемого к его знаниям некоторым образом изменяет всю совокупность этих знаний; он считает, что самый надежный здравый смысл не может заменить собою тех сведений, которые мы можем почерпнуть лишь из документов и ни из чего другого; поэтому всякое открытие, как и всякий новый хитроумный способ толкования уже известных фактов, является для него событием. Моралист любит лишь литературы, достигшие полной зрелости; он любит произведения законченной формы. Критик предпочитает истоки; он предпочитает то, что находится в процессе становления, ибо критик во всем видит документ и знак тайных законов, управляющих развитием духа. Моралист любит старое, но не очень старое – ибо в первобытных творениях есть прямолинейность, которая тревожит его продуманные привычки. Критик же всюду ищет первобытность: если бы только он нашел что-нибудь более древнее, чем Веды или Библия, именно этой новонайденной древности он бы и стал поклоняться» [Op. cit., 41–42].
Контраст между «приличным человеком» и ученым-гуманитарием достигает кульминации, когда Ренан доходит до мнений Сильвестра де Саси-младшего по поводу исторических трудов:
Верный своим литературным воззрениям, г-н де Саси опасается, что обсуждение фактов и разнообразие мнений повредят красоте стиля в исторических трудах; он считает, что самым простым выходом было бы, чтобы каждый избрал себе систему по своему вкусу и безо всяких обсуждений следовал ей. «Позволю себе признаться, – пишет он, – что при виде этих сложенных штабелями устрашающих фолиантов, которые преграждают нам доступ к нашей истории, я не раз был готов предать ученость анафеме и пожалеть, что мы перестали ограничиваться наивной верой в наши троянские корни и в нашего доброго короля Франсиона, сына Гектора и основателя французской монархии». Даже самым красноречивым историкам нашего времени он едва прощает их прегрешение, которое состоит в том, что они в то же время являются учеными и критиками; он хотел бы, чтобы все придерживались общепринятой версии событий, чтобы историки-риторы или историки-моралисты, наши Титы Ливии и наши Плутархи, могли свободно ораторствовать на основе этой версии. XVII век (за исключением великой школы бенедиктинцев) понимал труд историка точно таким же образом; но это как раз один из тех вопросов, в которых следовать за классической традицией нам сложнее всего. Мы ожидаем найти в истории непосредственно узреваемую панораму прошлого; между тем к подобному непосредственному усмотрению прошлого нас может привести только обсуждение различных версий и толкование документов. Я, бесспорно, вызову возмущение у г-на де Саси – но, если бы мне позволено было выбирать между подготовительными записями, сделанными оригинальным историком, и окончательным текстом его книги, я бы выбрал подготовительные записи. Я бы отдал всю прекрасную прозу Тита Ливия за некоторые документы, имевшиеся у него перед глазами, – документы, которые он иногда столь причудливо искажал. Собрание писем, депеш, расходных счетов, грамот, надписей говорит мне гораздо больше, чем самое раскрепощенное повествование. Я даже не верю, что без привычки работать с подлинниками документов можно приобрести ясное представление об истории, о ее границах и о той степени доверия, с которой надо относиться к различным сферам исторического исследования» [Op. cit., 44–45].
В заключительном очерке этой книги мы увидим, что конфликт между «приличными людьми» и исторической наукой не был до конца исчерпан и в первой половине XX века.
Словесность vs. наука: система государственных академий
Важно подчеркнуть, что в основе творческой практики французских интеллектуалов XVI – первой трети XVII века лежали представления о словесности, науке и учености, еще не подвергшиеся дифференциации. В мире, привычном для этих авторов, слова savant (ученый) и écrivain (писатель) значили практически одно и то же; вместо привычного нам разграничения на «научную» и «художественную» литературу существовало некоторое единое поле «словесности» (lettres); человек, находившийся в этом поле и публиковавший результаты своих трудов в письменном и печатном виде, назывался писателем; именно поэтому понятие «республика словесности» (лат. Respublica literaria, фр. République des lettres) в одинаковой степени принадлежит сегодня и истории литературы, и истории науки, а пониматься это выражение может, в зависимости от контекста и дисциплинарной перспективы, то как «литературная республика», то как «республика ученых».
~~~~~~~~~~~
Ср. констатацию современной исследовательницы: «‹…› Выражение Respublica literaria и его эквиваленты на национальных языках обладают большим разнообразием значений. Все эти значения группируются вокруг двух полюсов: с одной стороны, достаточно размытые и общие значения («ученые», «литераторы», «знание», «словесность»); с другой стороны, одно более конкретное и вместе с тем более богатое значение – пресловутое международное сообщество ученых» [Waquet 1989, 477]. К вопросу о «республике словесности» см. также, помимо ранее указанной обобщающей монографии [Bots, Waquet 1997], две работы, с которыми полемизирует Ваке: книгу Анни Барнс [Barnes 1938] и концепцию Райнхарта Козеллека, изложенную в его книге 1959 года «Критика и кризис» [Koselleck 1972, 125–135] (по поводу Пьера Бейля и Вольтера), а также раздел «Республика словесности и торговля печатными изданиями» в труде Элизабет Эйзенштейн [Eisenstein 1979, 136–159, особенно 137–139].
~~~~~~~~~~~
Понятия «словесность» (lettres) и «науки» (sciences) были коэкстенсивны, то есть имели один и тот же объем: оба понятия охватывали один и тот же широкий круг объектов, только понятие lettres брало эти объекты со стороны их формы (словесность), а понятие sciences – cо стороны их содержания (знание).
~~~~~~~~~~~
Нерасчлененность значения и предельно широкий объем понятия lettres можно проиллюстрировать словоупотреблением Декарта в «Рассуждении о методе» (1636). Декарт пишет в первой главе «Рассуждения…»: «J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et ‹…› j’avois un extrême désir de les apprendre», т. е. буквально: «Словесностью я питался с детских лет и ‹…› имел крайнее желание познать ее». Дальше постепенно выясняется, что к «словесности», которую Декарт имел крайнее желание познать, относились красноречие, поэзия, математика, богословие, медицина, юриспруденция и прочие науки (русский перевод этого пассажа см. в [Декарт 1989, 252–255]).
~~~~~~~~~~~
В эпоху Людовика XIV понятия, существовавшие раньше в нерасчлененном единстве, подверглись дифференциации и функциональной специализации. На смену нерасчлененному понятию lettres (словесность) пришло специальное уточнение belles lettres (изящная словесность), сужающее объем словесности до размеров «художественной литературы».
~~~~~~~~~~~
Конечно, словосочетание «художественная литература» взято нами из позднейшего культурного обихода и является здесь анахронизмом. «Изящная словесность», как ее понимали в XVII–XVIII веках, отличается от «художественной литературы», как ее понимают в XIX–XX веках, прежде всего тем, что доминирующий признак «художественной литературы» – вымышленность, а доминирующий признак «изящной словесности» – риторичность. Есть, однако, очевидный общий признак, позволяющий сблизить оба понятия: и тот и другой термин обозначают не все пространство письменной или печатной словесности, а лишь ту его часть, которая несет гедонистическую функцию, т. е. призвана «услаждать» читателя.
~~~~~~~~~~~
Впоследствии, в XVIII веке, когда сужение словесности до размеров «изящной словесности» станет разуметься само собой, понятие lettres станет употребляться в двух значениях: и в старом, широком значении ‘всё написанное’, и в новом, узком значении ‘изящная словесность’, т. е. как синоним выражения belles lettres.
Аналогичной специализации подверглось в эпоху Людовика XIV и понятие sciences. Теперь за этим понятием закрепляется гораздо более узкий объем, и закрепление это имеет совершенно нормативный характер, поскольку оно санкционировано именем короля. Дело в том, что в 1666 году Кольбер, исполняя общее поручение Людовика XIV о мерах по увековечиванию его царствования, учреждает новую академию, которая называется Académie royale des sciences, Королевская академия наук. Первоначально предполагалось объединить в лоне этой академии самые разные виды знания, в том числе и изящную словесность; однако практическая необходимость функциональной дифференциации разных академических учреждений вынудила Кольбера отказаться от первоначального плана. В итоге под крышей Академии наук были оставлены лишь математика и физика, причем последняя подразделялась на анатомию, химию, ботанику и астрономию. Таков стал отныне – по умолчанию – объем понятия sciences; как видим, отныне «науками» называлось то, что в нашем словоупотреблении обозначается словосочетанием «точные и естественные науки».
Поле знания, которое еще несколько десятилетий назад воспринималось как единое пространство, было теперь разделено на поле «наук» и поле «изящной словесности». Что касается учреждений, олицетворявших «изящную словесность», то функциональными аналогами Академии наук здесь были, во-первых, созданная еще при Людовике XIII Французская академия, имевшая главной задачей очищение и регламентацию живого французского языка (то есть не занимавшаяся древними языками); а во-вторых, созданная Людовиком XIV в 1663 году новая академия, сперва неофициально называвшаяся Малой академией, затем, в 1701 году, переименованная в Королевскую академию надписей и медалей, а еще позднее, в 1716 году, получившая свое окончательное название – Академия надписей и изящной словесности.
Исходной миссией «Малой академии» была разработка «наглядной пропаганды», прославляющей царствование Людовика XIV: латинских надписей на памятниках и медалях, легенд для парадной живописи, программ для символики декора королевских апартаментов и для королевских празднеств, а также создание оперных либретто. Таким образом, первоначальные задачи Академии надписей были художественно-практическими, но предполагали опору на эрудицию: это было то самое использование учености в практических целях, о котором мы говорили в предыдущих разделах. Первые члены Академии надписей были рекрутированы из числа членов Французской академии; их было всего четверо, и ни один из них не был исследователем древностей: Шаплен был поэтом, аббат Бурзей – проповедником, Кассань – проповедником, поэтом и переводчиком Цицерона и Саллюстия, Шарпантье – переводчиком Ксенофонта и автором «Жизни Сократа». Решительный поворот в сторону исследования древностей начался в 1700‐е годы, после того как в 1701 году Людовик XIV утвердил устав Академии надписей, разработанный аббатом Жан-Полем Биньоном. Согласно этому уставу академия была значительно расширена: число ее членов отныне было доведено в общей сумме до сорока человек. Столь же заметно был расширен и круг уставных задач: к составлению надписей для медалей и памятников теперь прибавилось описание главных событий истории Франции, учет национальных и древних памятников, реферирование важнейших публикаций по вышеуказанной тематике и самостоятельная исследовательская работа каждого академика по той или иной теме см. [Kriegel 1988с, 189–190]. С этого момента Академия надписей превращается в главный центр историко-филологических изысканий на территории Франции: по выражению Альфреда Мори, она становится «сенатом учености» [Maury 1864, 4]. В сферу постоянных интересов академии, наряду с нумизматикой, геральдикой и сфрагистикой, навсегда попадают археология, эпиграфика, география, палеография, библиография, греческая, латинская и восточная филология, исследование мифологии.
Иначе говоря, из всех перечисленных выше академий, находившихся под патронажем короля, именно Академия надписей стала пристанищем для историко-филологического знания – но теперь это знание официально квалифицировалось как «изящная словесность», ведь с 1716 года академия называлась Академией надписей и изящной словесности! Между «изящной словесностью» и «наукой» был прорыт ров, которому предстояло со временем лишь расширяться и углубляться, а историко-филологическому знанию предстояло окончательно привыкнуть к своему официально утвержденному месту: по ту сторону от науки, в одном строю с изящной словесностью. Вновь и вновь закреплялся не сформулированный прямо, но оттого не менее самоочевидный постулат: изучение изящной словесности и само является изящной словесностью.
19 апреля 1735 года аббат де Ланоз (de La Nauze) произнес на заседании Академии надписей и изящной словесности «Речь об отношениях между Изящной Словесностью и Науками». По словам самого Ланоза, цель его речи состояла в том, чтобы
показать, что Наукам и Словесности нечего страшиться друг друга и что, напротив того, Науки и Словесность связаны между собой самыми тесными отношениями [La Nauze 1735, 372].
Нам интересны не столько аргументы, с помощью которых Ланоз пытался достичь поставленной цели, сколько сама та ситуация, которая сделала осмысленной и насущной постановку подобной цели. Ланоз сам описал эту культурную ситуацию, актуальную для его времени, в первых же словах своей речи:
Словесность и Науки делят обычно ученых людей на два различных класса. Одни погружаются в ученость разнообразную и полную приятности; это Словесники [les gens de Lettres]. Другие посвящают себя познаниям более возвышенным и более ощутимо полезным; это приверженцы Наук [les partisans des Sciences]. Вкус, который человек питает к избранному им самим роду изысканий, часто оборачивается предубеждением по отношению к изысканиям противоположного рода. Может поэтому случиться и так, что словесник и сторонник науки вовсе не почувствуют достоинств, присущих трудам противоположной стороны [Ibid.].
Здесь симптоматичны все детали. И узкий объем понятия «словесность», выступающего как синоним «изящной словесности». И жесткое противопоставление «словесности» и «наук». И пресуппозиция о сопоставимости словесности и наук как двух различных типов учености. И однозначное соотнесение антитезы «словесность vs. науки» с антитезой «приятное vs. полезное». И обозначение людей, занимающихся изысканиями в сфере словесности, термином les gens de Lettres: мы, чтобы сохранить единство семантического поля, перевели его буквально, термином «словесники», – но, вообще говоря, принятым русским эквивалентом выражения les gens de Lettres является слово «литераторы», и такой перевод еще более оттеняет культурную специфичность позиции Ланоза; будучи изложена в сегодняшних терминах, эта позиция выглядит так: люди, изучающие словесность, относятся к числу литераторов, а не к числу ученых. Особенно же замечательно представление о «словесниках» и «научниках» как о двух классах интеллектуалов, разделенных непроницаемой перегородкой. Это представление предвосхищает ту разметку культурного пространства, которая станет привычна в XX веке: разделение образованных людей на «две культуры» – на «гуманитариев» и «технарей».



