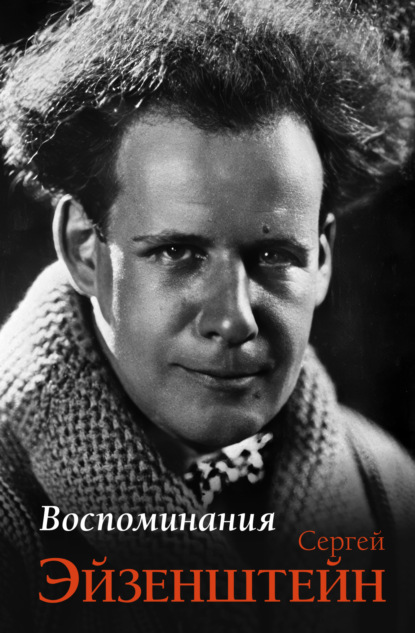
Полная версия:
Воспоминания
Повторяется история с Бердслеем:



В мире животных
я купил пьесу «какого-то» Джонсона из-за иллюстраций к ним Бердслея.
Пьеса оказалась «Volpone» Бена Джонсона.
Случайно ее прочел и по уши навсегда увлекся великим Беном.
Так и здесь.
Попробовал почитать саму книжку,
познакомился с Мелвилдом и опьянел.
Потом, по непонятной внутренней интуиции, из-за моря Джей мне шлет «Оmoо» и «Турее»[16] – восхитительные регрессивные конструкции (1945)!
До этого Джей (Лейда) от моего имени ссылается в «The Film Sense» на главу из «Моби Дика» – «The whiteness of the whale»[17] (к моему пассажу о том, что «злодейство» в «Александре Невском» решалось, вопреки традициям, белым: рыцари, монахи).
Лихорадочно ищу чего-нибудь о Мелвилле. «Moby Dick» интересует еще как возможный материал для пародийного «The hunting of the Snark»[18] Льюиса Кэролла.
Единственное, что пока нахожу (нашел раньше, когда впервые прочел «Moby») – это полстранички у Mrs. Rourke в «American humour»[19] (до войны).
Затем читаю в «Литературной газете» (1944), что наследница Мелвилла послала в Москву ряд его произведений в старых изданиях.
В это же время читаю у Règis Messac («Le “Detective novel” et l’influence de la pensèe scientifique») о «Confidence man» [20]Мелвилла.
Ищу его в Библиотеке иностранной литературы. Там есть что угодно, кроме «Confidence man».
Но зато есть и большое количество книг о Мелвилле.
Среди них… «Studies in classic american literature» [21]Лоуренса.
Терпеть не могу читать в библиотеках.
Особенно в холоде и грязи декабря 1944 года, в нетопленной Библиотеке инолитературы в переулке на Пречистенке.
Все же одолеваю главы о Мелвилле и остаюсь bouche bée[22].
Так это замечательно, и в линии тем моего Grundproblem[23] Melville vu par Lawrence[24] – совершенно изумителен.
Через Hellmann получаю томик в собственность.
Потом от Джея приходят «American Renaissance»[25] Матиссена и «Herman Melville» Sedgwick (я уже в больнице, в начале 1946 года).
Revival[26] бешеного увлечения Лоуренсом.
Декабрь 1943 года, когда после break-down’а[27], после девяноста ночных съемок «Ивана» в Алма-Ате я отдыхаю в горах; один в маленьком домике в яблоневом саду при закрытом на зиму санатории ЦК Казахстана.
В солнце и снегах зачитываюсь сборником «Collected tales»[28] и т. д.
Меня интересует «звериный эпос» сквозь его новеллы.
Я занят вопросом «звериного эпоса» в связи с… Disney’ем.
Disney как пример искусства абсолютного воздействия – абсолютного appeal[29] для всех и всякого, а следовательно, особенно полная Fundgrube[30] самых базисных средств воздействия.
«Tales» – поразительны по обилию подспудно действующего и по чисто литературному блеску.
Любопытно, что «Aaron’s rod»[31] так же удивительно плохо, как и «Sons and lovers»[32], да, пожалуй, и «Plumed serpent»[33], которого невозможно одолеть! Хотя это my «beloved Mexico»[34] – а может быть, именно потому knowing Mexico[35]?!
* * *Второй случай – хотя по времени первый: Всеволод Эмильевич.
В 1915 году меня упорно хотят приобщить к «Любви к трем апельсинам».
Узнав, что меня натравил на театр Комиссаржевский своей «Турандот» у Незлобина (а не пакостно-паточная «Турандот» у Вахтангова) того же Гоцци, старается Мумик (Владимир) Вейдле-младший.
В доме на Каменноостровском, где много лет потом живет Козинцев.
Безрезультатно. Смутно помню обложку Головина.
Ту самую, оригинал которой сейчас – драгоценнейшее из воспоминаний о мастере – находится у меня дома!

Эскиз к балету «Пиковая дама»
Миллионеры на моем пути
Краснокожие индейцы в перьях. Короли. И миллионеры.
О них знаешь только по книгам.
Фенимор Купер, Следопыт и Чингачгук.
Нюсенжены, Саккары и Каупервуды Бальзака, Золя и Драйзера.
В краснокожих играл. Царя в детстве видел. Королей не встречал никогда.
О миллионерах знал только понаслышке.
Бэкер-стрит, мадам Тюссо (кабинет восковых фигур, начавший свою историю с момента, когда мосье Тюссо привез в Лондон два восковых изображения отрубленных голов Людовика XVI и Марии Антуанетты).
Скажем прямо – короля я все-таки увидел, хотя и мимолетным профилем в черной закрытой машине вечером по пути в театр.
Ровно настолько, чтобы живьем проверить его сходство с Николаем II, которого видел подробнее и дважды.
Один раз в Риге.
И другой раз при открытии памятника Александру III.
Пресловутый «Комод, на комоде – бегемот, на бегемоте – обормот» Паоло Трубецкого («Отец и дед мой казнены» Бедного и «многие желали бы видеть этот гранитный пьедестал подножием гильотины, но я этого не допущу» Керенского или à peu près[36]).
Смотрел на царя из углового окна на Фонтанке. (Недавно видел окно, заложенное кирпичами с амбразурами, глядевшими на еще отсутствовавших клодтовских коней – воспоминание о днях блокады Ленинграда.)
В те годы – это одно из окон «поставщика двора его величества» портного Китаева.
С девичьих времен маменька шьет у него платья и костюмы, и в этот «торжественный» день Китаев любезно раскрывает свои окна своей особенно преданной clientèle d’élite[37].
Здесь проход по Невскому его императорского величества дополняется чаем и птифурами.
Почему-то чай и птифуры непременно сопутствуют прохождениям торжественных процессий, связанных с коронованными особами.
Очень хорошо в «Кавалькаде» Ноэля Коуарда сделана сценка, где за дракой из-за пирожных дети забывают выйти на балкон, чтобы посмотреть на процессию, в которой участвует и увенчанный орденами папа.
Между птифурами (этими как бы «четвертованными» нормальными пирожными) Китаев раздает дополнительные деликатесы: перлы из интимной жизни царей.
Помню рассказ о том, как императрица (Мария Федоровна) однажды привезла сюртук Александра III «перешить в амазонку».
Облачения царя-гиганта хватило бы на это (кто видел его кушетку в Гатчинском дворце!).
Но Китаев, конечно, «заменил сюртук сукном», а сюртук хранит как реликвию.
Рассказы, чай и птифуры не мешают разглядеть маловпечатляющую худенькую фигурку полковника в хаки – носителя царских регалий и чина, застенчиво правой рукой играющего застежками левой перчатки.
А в остальном так хорошо известного по картине Серова.
Серов здесь вспоминается потому, что один из моих приятелей – Шурик Верховский – в дни революции видел этот портрет, проколотый решеткой Зимнего дворца, на которой он болтался вверх ногами.
Под подбородком Екатерины II (что против былой Александринки), как и под бородой Александра III на Знаменской площади, в эти же дни болтались бутылки из-под водки. В руках красные флажки.

Король и королева
Невский оглашался выкриками: «Правда о царице Сашке и распутнике Гришке», «Акафист царю Николаю» и т. д. и т. п.
Я лихорадочно скупал все, что могло попасться под руку в этом роде.
Представление о революции у меня было сплетено с самыми романтическими страницами Великой французской революции и Парижской коммуны.
Памфлеты! Боже мой! Как же без них.
И по совести скажу: гильотины на Знаменской площади на месте творения Паоло Трубецкого мне очень не хватало для полноты картины.
Как случилось, что мальчик из «хорошей семьи» с папенькой – оплотом самодержавия – вдруг мог…

<Похищение>
«The knot that binds»[38]
Главка о divorce of pop and mom[39]
Самый крупный писчебумажный магазин в Риге – на Купеческой улице. Любопытная эта улица «поперек себя толще» (это, кажется, обозначение для одного из персонажей «оригинального» «Пиноккио», которого я читал в самом раннем детстве, – тогда еще не было «вариантов» ни А. Толстого, ни А. Птушко, а Дисней был, вероятно, еще моложе меня).
Ширина Кауфштрассе, аккуратно вымощенной прямоугольным камнем, была больше ее длины.
Это особенно бросалось в глаза, так как кругом были маленькие улочки старого города.
Слева от магазина – книжная лавка «Ионк унд Полиевски», наискосок – «Дейбнер», напротив – громадный магазин белья Хомзе.
Над самым магазином вывеска – «Аугуст Лира, Рига». Лира пишется через «ипсилон» (то, что мы называем игрек, а мексиканцы – «ла и гриега», среди которых эта буква почему-то очень популярна; я помню на окраине Мексико-Сити маленькое питейное заведение под этим названием, с громадным игреком на вывеске). «Ипсилон» нас заставляют произносить как «ю». Отсюда – «Аугуст Люра, Рига».
Этот магазин – рай писчебумажника: карандаши всех родов, тушь всех цветов, бумага всех сортов. Какие клякс-папиры, ручки, гофрированная бумага для цветочных горшков, резинки, конверты, бювары, перочинные ножи, папки!
Отдельно – открытки.
Тогда была мода на фотооткрытки.
Черные с белым фоторепродукции (необычайно контрастные по печати) с известных или с ходких картин.
Ангел, оберегающий двух детишек, шагающих вдоль пропасти.
Еврейское местечко, побивающее камнями девушку, в чем-то провинившуюся.
Самоубийство двух любовников, связанных веревкой и готовых броситься в пучину.
Чахоточная девица, умирающая, глядя на луч солнца, пробивающийся в комнату…
Такие открытки собирались, как почтовые марки, и старательно размещались в альбомы – тоже как марки.
(Не от этих ли картинок начинаются корни неприязни к «сюжету» и «анекдоту», отметившие начало моей кинокарьеры?)
Тут же были картинки более крупного формата. По преимуществу заграничные.
В те же годы Америка полонила Англию и Европу особым типом девушки.
Рослая, с энергичным подбородком, выдвинутым вперед, в длинной юбке, с мечтательными глазами из-под валика прически или волос, завязанных узлом (обычно нарисованная холодной штриховкой пера), – эта девушка – создание Гибсона, известная под кличкой Gibbson-girl[40], так же наводняла журналы, юмористические журналы, лондонский «Punch», нью-йоркский «New Yorker», как в период войны (второй мировой) все места земного шара, где проходила американская армия, затоплялись так называемыми «Варга герлс» («Varga-girls») – полураздетыми девушками, рисованными южноамериканским художником Варгасом, ведущим художником среди бесчисленных создателей так называемых pin-up girls – «девушек для прикалывания».
Эти картинки были на вкладных или отрывных листах почти всех журналов, шедших на фронт.
Солдаты их аккуратно вырезали и прикалывали к стенкам убежищ, блиндажей, казарм, полевых госпиталей над койками.
Насколько благовоспитанны были первые, настолько блудливы были вторые.
Как сейчас помню один из сенсационных для каких-то девятьсот восьмых-девятых лет рисунок в манере Gibbson’а.
Назывался он «The knot that binds» – «Узел, который связывает». Изображал он громадный черный бант с узлом посередине.
На левом крыле банта был традиционный профиль гибсоновской молодой дамы. Справа – профиль не менее типичного гибсоновского молодого человека. Все гибсоновские барышни были на одно лицо, а молодые люди казались их братьями-близнецами – так они походили друг на друга.
А в центре узла – фасом на публику – улыбалось личико младенца.
Эта картинка особенно врезалась в память.
Почему?
Вероятно, потому, что видел я ее как раз тогда, когда я сам был в роли «узла, который связывает».
Но узлом, которому не удалось связать и сдержать воедино расколовшуюся семью, разводившихся родителей.
Собственно говоря, никому нет дела до того, что мои родители развелись в 1909 году.
Это было достаточно общепринято в те времена, как несколько позже, например, были весьма популярны «эффектно аранжированные» самоубийства.
Однако для меня это сыграло очень большую роль.
Эти события с самых малых лет вытравили атмосферу семьи, культ семейных устоев, прелесть семейного очага из сферы моих представлений и чувств.
Говоря литературно-историческим жаргоном – с самых детских лет «семейная тема» выпала из моего кругозора.
Этот процесс выпадания был достаточно мучителен.
И сейчас проносится в памяти, как фильм с провалами, выпавшими кусками, бессвязано склеенными сценами, как фильм с «прокатной пригодностью» на тридцать пять процентов.
Моя комната примыкала к спальне родителей.
Ночи напролет там слышалась самая резкая перебранка.
Сколько раз я ночью босиком убегал в комнату гувернантки, чтобы, уткнувшись головой в подушки, заснуть. И только я засыпал, как прибегали родители, будили и жалели меня.
В другое же время каждый из родителей считал своим долгом открывать мне глаза на другого.
Маменька кричала, что отец мой – вор, папенька, – что маменька – продажная женщина. Надворный советник Эйзенштейн не стеснялся и более точных обозначений. Первой гильдии купца дочь Юлия Ивановна обвиняла папеньку в еще худшем. Потом сыпались имена: все львы тогдашнего русского сеттльмента в «прибалтийских провинциях». С кем-то папенька стрелялся. С кем-то до стрельбы не доходило.
В какой-то день маменька, как сейчас помню, в чудесной клетчатой шелковой красной с зеленым блузке истерически бежала через квартиру с тем, чтобы броситься в пролет лестницы. Помню, как ее, бившуюся в истерике, папенька нес обратно.
О «процессе» не знаю ничего. Обрывками слышал, что какие-то свидетельские показания давал курьер Озолс, что-то как будто «показывала» кухарка Саломея (понадобилось очень много лет, чтобы вытравить ассоциации этого имени с представлениями о шпинате с яйцами и воспринимать его в уайльдовском аспекте!).
Потом была серия дней, когда меня с утра уводили гулять по городу на весь день.
Потом заплаканная маменька со мной прощалась. Потом маменька уехала.
Потом пришли упаковщики.
Потом увезли обстановку. (Обстановка была приданым маменьки.)
Комнаты стали необъятно большими и совершенно пустыми.
Я воспринимал это даже как-то положительно.
Я стал спать и высыпаться.
А днем… ездил на велосипеде по пустой столовой и гостиной.
К тому же уехал и рояль, и я был свободен от уроков музыки, которые я только что начал брать.
Я не курю.
Папенька никогда не курил.
Я ориентировался всегда на папеньку.
С пеленок рос для того, чтобы стать инженером и архитектором.
До известного возраста равнялся на папеньку во всем.
Папенька ездил верхом.
Он был очень грузен, и выдерживал его только один конь из рижского Таттерсаля – гигантский Пик с синеватым полубельмом на одном глазу.
Меня тоже обучали верховой езде.
Архитектором и инженером я не стал.
Кавалериста из меня не вышло.
После того как пресловутый безумец Зайчик пронес меня карьером вдоль всего рижского побережья, стукнувшись где-то около Буллена о купальные мостки, – у меня как-то отпал интерес к этому.
В следующий раз меня так же беспощадно нес мексиканский конь через плантации магея, вокруг хасиенды Тетлапайак.

Племянница и дядя
После этого езжу только на автомобилях.
Так же как играю не на рояле, а только на патефоне и радио.
Да! Так и не курю я потому, что в определенном возрасте не дал себе увлечься этим.
Во-первых, идеал – папенька, во-вторых, я был безумно покорным и послушным.
* * *Может быть, еще и потому мне были так противны все эти черты в Эптоне Синклере, что я их знал с колыбели?
Пиететы!
Боже, сколько, и в плюс, и в минус, они тяготели и тяготеют на мне.
Trotzköpfiges[41] непризнание обязательного, часто очень даже hardi[42] – Маяковский в период первого «Лефа». (Charlie Chaplin – if to be quite sincere![43])
И болезненно-нездоровое: en avoir aussi, en avoir autant[44].
В ничтожнейшем, в пошлейшем.
И опять-таки – это же, как активнейший стимул:
это меня сделало режиссером («Маскарад»),
это же меня толкало к fame[45] (Евреинов и вырезки), даже к выступлениям, лекциям за границей (путешествие Анатоля Франса в Буэнос-Айрес – желание, остывшее лишь в момент, когда и я получил предложение в Нью-Йорке на лекции в… Буэнос-Айрес по 1000 долларов за лекцию and travel expenses[46]!).

Мадам в положении
Незамеченная дата
«Сам» Аркадий Аверченко забраковал его – мой рисунок.
Заносчиво, свысока, небрежно бросив: «Так может нарисовать всякий».
Волос у него черный. Цвет лица желтый. Лицо одутловатое.
Монокль в глазу или манера носить пенсне с таким видом, как будто оно-то и есть настоящий монокль?
Да еще цветок в петличке.
…Рисунок действительно неважный.
Голова Людовика XVI в сиянии над постелью Николая II.
Подпись на тему: «Легко отделался». (Перевод на русский слова «veinard»[47] не сумел найти…)
Аркадий Аверченко, – стало быть, «Сатирикон» – и тема рисунка легко локализируют эпизод во времени.
Именно к этому времени он и относится.
Именно об эту пору грохочет А.Ф. Керенский против тех, кто хотел бы на Знаменской площади увидеть гильотину.
Считаю это выпадом прямо против себя.
Сколько раз, проходя мимо памятника Александру III, я мысленно примерял «вдову» – машину доктора Гильотена – к его гранитному постаменту… Ужасно хочется быть приобщенным к истории. Ну а какая же история без гильотины!
…Однако рисунок действительно плох. Сперва нарисован карандашом. Потом обведен тушью. Рваным контуром, лишенным динамики и выразительности непосредственного бега мысли или чувства. Дрянь.
Вряд ли сознаюсь себе в этом тогда. Отнести «за счет политики» (в порядке самоутешения) – не догадываюсь. Отношу за счет «жанра» и перестраиваюсь на «быт».
Быт требует другого адреса. И вот я в приемной «Петербургской газеты». Вход с Владимирской, под старый серый с колоннами ампирный дом. В будущем там будет помещаться Владимирский игорный клуб. Узким проходом, отделанным белым кафелем, как ванная комната или рыбное отделение большого магазина.
В этой приемной, темной, прокуренной, с темными занавесками, я впервые вижу деятелей прессы между собой. Безупречно одетый человек с физиономией волка, вздумавшего поступить на работу в качестве лакея, яростно защищает свое монопольное право «на Мирбаха».
Убийство Мирбаха – сенсация самых недавних дней. Кто-то позволил себе влезть с посторонней заметкой по этому сюжету.
В центре – орлиного вида старец. Точно оживший с фотографии Франц Лист. Седая грива. Темный глубокий глаз. От Листа отличают: мягкий и не очень чистый, к тому же светский, а не клерикальный воротник и отсутствие шишек, которые природа так щедро разбросала по лику Листа. Очень импозантный облик среди прочей табачного цвета мелюзги.
В дальнейшем я узнаю, что это Икс – очень известная в журналистских кругах персона. Известная тем, что бита по облику своему более, чем кто-либо из многочисленных коллег. Специальность – шантаж. Притом самый низкопробный и мелкий.
…Однако меня зовут в святилище. В кабинет. К самому. К Худекову.
Он высок. Вовсе неподвижен над письменным столом. Седые волосы венцом. Красноватые припухшие веки под голубовато-белесыми глазами. Узкие плечи. Серый костюм.
В остальном – это он написал толстую книгу о балете.
Предложенный рисунок – по рисунку более смелый, чем предыдущий.
Уже прямо пером. Без карандаша и резинки.
По теме он – свалка. Милиции и домохозяек.
«Что это? Разбой?» – «Нет: милиция наводит порядок».
На рукавах милиционеров повязки с буквами «Г. М.».
Такую повязку я носил сам в первые дни февраля. Институт наш был превращен в центр охраны тишины и порядка в ротах Измайловского полка.
Худеков кивает головой. Рисунок попадает в корзиночку на столе.
В дальнейшем – на страницу «Петербургской газеты».
Я очень рад. Подумать только: с юных лет ежедневно я вижу этот орган печати. И до того как подают газету папаше, жадно проглатываю сенсационно уголовные «подвалы» и «дневник происшествий». Сейчас – я сам на этих заветных страницах. И сверх того в кармане – десять рублей. Мой первый заработок на ниве… etc.
Второй рисунок.
На тему о том, до какой степени жители Петрограда привыкли к… стрельбе. (Стало быть, в городе об это время постреливают. Да, видно, и не так уж мало.)
Четыре рисуночка по методу crescendo[48].
Последний из них:
«Гражданин, да в тебя, никак, снаряд попал!» – «Да что ты? Неужели?»
И полснаряда торчит из спины человека.
Глубокомысленно? Смешно? Хм-хм… Но зато… правдиво!
Помню – сам я попал под уличную стрельбу. По Невскому двигались знамена. Шли демонстрации. Я заворачивал на Садовую. Вдруг стрельба, беготня. Ныряю под арку Гостиного двора. До чего же быстро пустеет улица при стрельбе! И на мостовой. На тротуаре. Под сводами Гостиного – словно кто-то вывернул на панель ювелирный магазин. Часы. Часы. Часы. Карманные с цепочками. С подвесками. С брелочками. Портсигары. Портсигары. Портсигары. Черепаховые и серебряные. С монограммами и накладными датами. И даже гладкие.
Так и видишь скачущий бег вприпрыжку людей, непривычных и неприспособленных к бегу. От толчков вылетают из карманов жилетов часы с брелочками. Из боковых – портсигары. Еще трости. Трости. Трости. Соломенные шляпы.
Было это летом. В июле месяце. (Числа третьего или пятого.) На углу Невского и Садовой. Ноги сами уносили из района действия пулемета. Но было вовсе не страшно. Привычка!
Эти дни оказались историей. Историей, о которой так скучалось и которую так хотелось трогать на ощупь!
Я сам воссоздавал их десять лет спустя в картине «Октябрь», на полчаса вместе с Александровым прервав уличное движение на углу Невского и Садовой.
Только улицы, засыпанной тростями и шляпами, после того как разбежались демонстранты, снять не удалось (хотя специально включенные в массовку люди специально их раскидали).
Несколько хозяйственных старичков из добровольной заводской массовки (кажется, путиловцев) старательно на бегу подобрали имущество, дабы не пропало!
…Так или иначе – рисунок уловил привычку.
Глубокомысленно или смешно? Не важно!
Передо мной чудо. Высокий, стройный, серые волосы венцом, каменно неподвижный, белесоватоглазый с красными припухшими нижними веками, автор толстой книги о балете. Сам. Хозяин. Вдруг… прыснул.
Я даже испугался.
Этот рисунок дал мне 25 рублей. Мало! Десять и двадцать пять – никак не выходит сорока рублей. А мне нужно именно сорок. «История античных театров» Лукомского стоит ровно сорок рублей.
Да и этих тридцати пяти никак не уберечь.
Беру сорок рублей в долг у домашних, покупаю «Историю» и планирую широко раскинуть поле деятельности.
Мне советуют пойти к… Пропперу. Это – «Биржевка».
Иду на… «Огонек». Так именуется издаваемый при «Биржевых ведомостях» еженедельный журнал. Разделом карикатуры там ведает (кажется, безраздельно) Пьер-О (Животовский). Барахло ужасное. И совершенно несправедливо, что он барахло… единственное и безраздельное.
Так или иначе, я у Проппера.
В этот день я просто улизнул из школы прапорщиков инженерных войск, что на Фурштадтской, в бывшем помещении Анненшуле.
Уже несколько дней в школе делается черт знает что.
Занятия не ведутся или ведутся с перебоями.

Юноша
После сладостно напряженного периода учений в лагерях – еще романтизированных ночными караулами в дождь и непогоду на шоссе, на подступах к Питеру, в тревожные дни корниловских попыток к наступлению – после напряженной полукурсовой экзаменационно-зачетной поры (минное дело, понтонное, моторы и т. д.) – вдруг день за днем непонятный застой и томление. А сегодня утром еще к тому же никому не разрешается выходить за ворота.
Ну, уж это слишком!
Я знаю проходной двор на Фурштадтскую. И поминай как звали… Чем шляться из конца в конец по нашим коридорам.
…Я – у Проппера. Этот – совсем в другом роде. Приемной вообще не помню. Вероятно, был «допущен» очень быстро. Комната очень маленькая. Никаких ввысь уходящих ампирных окон за тяжелым штофом занавесей. Сигара в зубах. Небольшая, нетолстая и не очень дорогая. Ничего от Нерона. (Худекова можно было бы сравнить с покойным императором, только очень похудевшим.) Что-то от зубного врача. Острая бородка. Белый медицинский халат с завязками вдоль всей спины, начиная от шеи. И стола никакого не помню. Все в движении. Бантики завязок. Бородка. Сигара. Безудержный поток слов.



