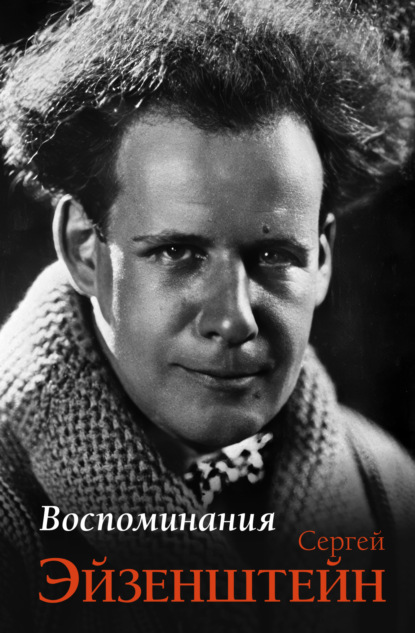
Полная версия:
Воспоминания
А мальчику из Риги все так же по-прежнему двенадцать лет.
В этом – мое горе.
Но в этом же, вероятно, и мое счастье.
Не очень нова мысль о том, что мало кто видит себя таким, каким он есть.
Каждый видит себя кем-то и чем-то.
Но интересно не это – интересно то, что этот воображаемый гораздо ближе к точному психологическому облику видящего, чем его объективная видимость.
Кто видит себя д’Артаньяном. Кто видит себя Альфредом де Мюссе. Кто по меньшей мере Каином Байрона, а кто скромно довольствуется положением Людовика XIV своего района, своей области, своей студии или своего окружения из родственников по материнской линии.
Когда я смотрю на себя совсем один на один, я сам себе рисуюсь больше всего… Дэвидом Копперфильдом.
Хрупким, худеньким, маленьким, беззащитным. И очень застенчивым.
В свете вышеприведенных перечислений – это может показаться забавным.
Но забавнее то, что, может быть, именно в силу этого самоощущения и собирался весь тот биографический накрут, столь упоительный для тщеславия, образчики которого я перечислил выше.
Образ Дон Жуана имеет много гипотетических истолкований.
Для разных случаев практического донжуанизма, вероятно, верны одни столько же, сколько и другие.
Для пушкинского «списка» (как и для чаплиновских орд) после блистательной гипотезы Тынянова в «Безыменной любви», конечно, иной ключ, чем к излюбленному полупсихоаналитическому истолкованию.
К тому истолкованию, которое видит в донжуанизме тревогу за собственные силы – который видит в каждой очередной победе лишь новое доказательство своей силы.
Но почему допускать донжуанизм только в любви?
Его, конечно, гораздо больше во всех иных областях, и прежде всего именно в тех, где дело связано с такими же вопросами «успеха», «признания» и «победы», не менее яркими, чем на ристалищах любовной арены.
Каждый молодой человек в какой-то момент своей жизни начинает «философировать», складывать свои собственные взгляды на жизнь, высказывать самому себе или верному наперснику таких лет – дневнику, реже в письмах к друзьям, какие-то свои суждения по общим вопросам.
Обычно общечеловеческая ценность их более чем сомнительна.
Тем более что они оригинальны не собственностью измышления, а только тем, откуда они заимствованы.
Но на них неизбежный налет трогательности курьеза, как в первых детских рисунках, иногда способных вдруг – в свете последующих лет – дать разглядеть черты самого раннего зарождения будущего.
В Британском музее есть витрина автографов.
В одном углу – нравоучительное письмо королевы Елизаветы своей «любимой сестре» Марии Стюарт, заключенной в темницу, в ответ на жалобы об отсутствии комфорта. Мужественный стиль королевы-девственницы любопытным образом перекликается с маленьким чертежиком (чуть более позднего времени), пришпиленным в другом уголке витрины.
Это не более и не менее как «мизансцена» обстановки предстоящей казни несчастной, но далеко не беспорочной шотландской королевы, представленная кем-то из лордов на утверждение «рыжей девке Бэсс», как именовал английскую королеву наш царь Иван Грозный.
Совсем рядом приколот листик клетчатой бумаги, где печатными буквами выведено несколько слов детской ручонкой будущей королевы Виктории в том возрасте, когда ей еще и не мнилось носить корону Объединенного королевства.
И все же наиболее волнительная из всех записок – четвертая.
Она написана молодым загорелым французским главнокомандующим корсиканских кровей.
Незадолго до этого он кричал, по словам героической легенды, о многих веках, которые глядят пирамидами на его войска, не слишком охотно участвовавшие в ближайших десантных операциях юного командующего в горячих песках Африки. Победы громоздились на победы, и слова военного юного гения разносились с именем Бонапарта по нескольким материкам.
И что же пишет в этот момент молодой корсиканец на обрывке бумаги из походной палатки (своему брату?):
«Известно всё. Горе и радость. Успехи и поражения. Осталось одно – стать замкнутым в себе эгоистом».
И это – не из «Дневника Онегина», а из гущи почти доисторической стадии биографии будущего Наполеона…
Наполеон пришел мне здесь на ум не зря.
Именно к нему относится первая аналогичная запись мальчика из Риги, старающегося разобраться в действительности:
«Наполеон сделал все, что он сделал, не потому, что был талантлив или гениален. А он сделался талантливым для того, чтобы сделать все то, что он наделал…»
Если взять за аксиому, что подобные записи пятнадцатилетних, двадцатилетних (а мне было семнадцать) имеют смысл эмбрионов будущих автобиографических намерений (слова корсиканского генерала – не только чайльд-гарольдовский пессимизм или предвосхищение того, чем так искусно в дальнейшем играет Стендаль, – это еще и некий принцип, с безраздельной беззастенчивостью проведенный в жизнь, – эгоизм!), то образ рижского Дэвида Копперфильда, быть может, уже не так и неожидан.
Однако откуда такая ущемленность?
Ведь ни бедности, ни лишений, ни ужасов борьбы за существование я в детстве никогда не знал. Где-нибудь дальше пойдут описания обстановки детства. Пока принимайте на веру!
Елка
Я помню елку. Всю в свечах, звездах, золоченых грецких орехах. Пересекая потоки золотых нитей, спадающих дождем от верхней венчающей звезды, ее опутывают цепи из золотой же бумаги. Это единственные цепи, известные буржуазному ребенку в том нежном возрасте, когда заботливые родители украшают ему елку. К ним разве еще примешивается понятие о цепочках на дверях, через которые, полуоткрыв дверь, глядят на пришедших, прежде чем их впустить. Цепочки от воров. А воров очень не любят в буржуазных семьях. И эту нелюбовь вселяют в детей с самого нежного возраста.
Но вот и сам ребенок. Он – кудрявый и в белом костюмчике.
Он окружен подарками. Трудно вспомнить, в этот ли раз среди подарков – теннисная ракетка или детский велосипед, железная дорога или лыжи. Так или иначе, глаза ребенка горят. И, вероятно, не от отсвета свеч, а от радости.
Но вот среди подарков мелькают желтые корешки двух книг.
И, как ни странно, – к ним-то больше всего относится радость ребенка.
Этот подарок – особый. Из тех, которые в буржуазных семьях заносились в «список пожеланий». Такой подарок – не только подарок – это уже осуществленная мечта. И вот наш курчавый ребенок уже носом уткнулся внутрь желтых обложек, пока в хрусталях и свечах догорает сочельник.
Курчавый мальчик – я сам, лет двенадцати.
А желтые книги – «История французской революции» Минье.
Так в сочельник, между елкой, грецкими орехами и картонными звездами, происходит наше первое знакомство с Великой французской революцией.
Почему? Откуда этот полный диссонанс?
Трудно воссоздать всю цепь, документировать, откуда вдруг взялось в тогда еще курчавой голове желание иметь рождественским подарком – именно это. Вероятно, в результате чтения Дюма. «Анж Питу» и «Жозеф Бальзамо», конечно, уже владели воображением «впечатлительного мальчика», как пишут в биографиях.
Но в нем уже пробуждалась неприятная черта будущего любопытства, пытливости, испортивших ему в дальнейшей жизни столько удовольствий, выпадающих на долю только поверхностным восприятиям. Взамен удовольствий эта пытливость принесла ему немало наслаждений. Он уже хочет знать не только литературные вымыслы по поводу великих событий, но и подлинную их историю. И тут любознательность совершенно случайно втягивает его в увлечение именно французской революцией, и притом гораздо раньше, чем историческим прошлым собственной страны.
Французское ввивается в самые первые шаги моей впечатляемости, особенно после того, как эта первая случайность становится почти закономерностью, когда на первые впечатления наслаиваются вторые.
Каким-то чудом в книгохранилище отца «впечатлительный мальчик» натыкается на другой историко-революционный материал. В библиотеке этого благонамеренного человека, дослужившегося до чинов и орденов, он казался вовсе неуместным.
А между тем «1871 год и Парижская коммуна» в богато иллюстрированном французском издании хранились там рядом с альбомами о Наполеоне Бонапарте – идеале папаши, как всякого self-made man’а[5].
Революции, и именно французские, начинают меня увлекать именно с этой ранней юношеской поры. Конечно, в основном своей романтикой. Своей красочностью. Своей необычностью.
Жадно вчитываешься в книгу за книгой. Пленяет воображение гильотина. Удивляют фотографии опрокинутой Вандомской колонны. Увлекают карикатуры Андре Жилля и Оноре Домье. Волнуют фигуры Марата, Робеспьера. В ушах стоит треск ружей версальских расстрелов и звон парижского набата, «le tocsin»[6] – слово, до сих пор волнующее меня ассоциациями от этих первых впечатлений, вычитанных из описаний Великой французской революции.
Но очень быстро сюда вплетается и третий венец революций начала XIX века: «Les Misérables»[7] Виктора Гюго. Здесь вместе с романтикой баррикадных боев уже входят и элементы идей, вокруг которых бились на этих баррикадах. Достаточно младенческая по глубине социальной своей программы, но страстная в своем изложении проповедь Гюго о социальной несправедливости как раз на том уровне, чтобы зажечь и увлечь подобными мыслями тех, кто юн и только вступает в жизнь идей.
Так получается любопытный космополитический клубок впечатлений моей юности.
Живя в Риге, я владею немецким языком лучше русского. А мыслями вращаюсь в истории французской.
Но дело развивается.
Интерес к коммуне не может не втянуть в орбиту любопытства 1852 год и Наполеона III. И тут на смену эпопеям Дюма, волновавшим в двенадцать – пятнадцать лет, вступает эпопея «Ругон-Маккаров» Золя, забирающая в свои цепкие лапы уже не только юношу, но уже начинающего – еще совсем бессознательно – формироваться будущего художника.

<Гротеск>
Встречи с книгами
К некоторым святым слетаются птицы: в Ассизи.
К некоторым легендарным персонажам сбегаются звери: Орфей.
К старикам на площади Св. Марка в Венеции льнут голуби.
К Андроклу – пристал лев.
Ко мне льнут книги.
Ко мне они слетаются, сбегаются, пристают.
Я столько лет их люблю: большие и маленькие, толстые и тонкие, редкие издания и грошовые книжонки, визжащие суперобложками или задумчиво погруженные в солидную кожу, как в мягкие туфли.
Они не должны быть чересчур аккуратными, как костюмы только что от портного, холодными, как крахмальные манишки. Но им вовсе не следует и лосниться сальными лохмотьями.
Книги должны обращаться в руках, как хорошо пригнанный ручной инструмент.
<Я могу воровать их. Вероятно, мог бы убить.
Они это чувствуют.>
Я столько их любил, что они наконец стали любить меня ответно.
Книги, как сочные плоды, лопаются у меня в руках и, подобно волшебным цветам, раскрывают свои лепестки, неся оплодотворяющую строчку мысли, наводящее слово, подтверждающую цитату, убеждающую иллюстрацию.
В подборе их я капризен.
И они охотно идут мне навстречу.
* * *Они роковым образом берут меня в кольцо.
Когда-то одна лишь комната мыслилась опоясанной книгами.
Но шаг за шагом комната за комнатой начинают обвиваться книжным обручем.

Вот после «библиотеки» охвачен кабинет, вот после кабинета – стенки спальни.
Честертона как-то приглашали прочесть реферат.
«О чем мне читать?» – спросил он, приехав на место.
«О чем хотите – хотя бы о зонтиках».
И Честертон строит реферат на расширяющейся картине волос, прикрывающих мысли, шляпах, прикрывающих волосы, зонтиках, покрывающих всё.
…Так иногда мне видятся мои комнаты.
Токи движутся от клеточек серого вещества мозга через черепную коробку в стенки шкафов, сквозь стенки шкафов – в сердцевину книг.
Неправда! Нигде нет стенок шкафов – я держу их в открытых полках, и в ответ на ток мыслей они рвутся к голове.
Иногда сильнее алчность излучения к ним.
Иногда сильнее заражающая сила, несущаяся сквозь их корешки.
Кажешься сам себе новым святым Себастьяном, пронизанным стрелами, идущими с полок.
А черепной коробкой кажется уже не маленький костяной шарик, включающий осколки отражений, как монада Лейбница, отражающая, но рисуются наружные стены самой комнаты, а слои книг, распластанные по их поверхности, – лишь расширяющимися наслоениями внутри самой головы.
И при всем этом книги уж вовсе не такие необыкновенные, неожиданные, скорее, в своих сочетаниях, а не в их букинистической, коллекционерской или декорационной диковинности.
И разве что неканоничностью набора и полным отсутствием того, что положено иметь!
И часто ценны они мне не столько сами по себе, как комплекс представлений, которыми они окутаны для меня, а в результате случайной иногда странички, зажатой безразличием неинтересных глав, отдельной строчки, затерянной среди страниц, занятых совсем другими проблемами.

Г. Ибсен
И вязкость этой «ауры», этих излучений (или туманностей?), роящихся вокруг самих виновников (и чем они ценнее мне самих творений), почти материализуется в подобие паутины, среди которой скользишь, боясь задеть ее или порвать, как тонкие и трепетные нити ассоциаций. И кажешься себе подобием мудрецов с Лапуты, трепещущих за сохранность своих паутин.
Иногда полуискренние доброжелатели старательно доказывают мне, что это вовсе не паутина, но что это – натянутые струны колючей проволоки, отгораживающей меня книжной мудростью от живой действительности.
Доброжелатели эти полуискренни, и истинность их утверждений полуправдива.
Таковы же и придирки касательно обилия цитат.
Цитаты! Цитаты! Цитаты!
Кто-то сказал: «Лишь тот, кто боится никогда не быть процитированным, сам избегает цитат».
Цитаты! Цитаты! Цитаты!
Еще князь Курбский, этот элегантный автор трактата о знаках препинания, а в остальном изменник родины, корил царя Ивана Грозного за цитаты.
Цитирую: «Из столь многих священных слов нахватано, и те с большой яростью и лютостью, не строками и не стихами, как в обычае у искусных ученых (если кому-нибудь случится о чем писать, то в кратких словах, большой разум заключающих), но слишком, сверх меры, излишне и бранчливо – целыми книгами, паремиями целыми и посланиями!»
Но цитата цитате рознь.
Цитата может быть блиндажом для начетчика, прячущего свое незнание или благополучие за цитату авторитета.

<Испанский гранд>
Цитаты могут быть безжизненной компиляцией.
Я понимаю цитаты как пристяжные справа и слева от скачущего коренника.
Иногда они заносят, но помогают мчать соображение разветвленным вширь, подкрепленным параллельным бегом.
Лишь бы не упустить вожжи!
Но – ни боже мой! – когда цитата идет цитате в затылок нудным цугом!
* * *По цитатам никогда ничего не создашь и не выстроишь.
Надо строить до конца, крепко войдя в конкретность явления,
и… глядь… цитаты сами придут и вложатся куда надо: помогут живому току течь закономерно.
Обратно же дело творчески и жизненно не пойдет.
Сотни людей проходят мимо цитаты, пока они ее не обрели сами в своей и по своей области – тогда они ее видят: она им подтверждает или помогает доосознать, дотянуть.
Обратным путем – неминуемая схоластика и филистерская мертвечина – папье-маше.
* * *Цитаты у меня.
Для меня их мало. Я бы все хотел смонтировать из осколков замеченного другими, но по иному поводу – поводу, нужному мне!
Как в кино: вам же вовсе не обязательно самому играть любой кусок. Ваше дело свести куски…
Книги раскрываются на нужной мне цитате. Я проверял – иногда ничего до и ничего после во всей книге не нужно.
* * *Вот какие-то синдромы из области патологии нервной системы открываются у меня в руках на странице, пригодной к вопросу техники сценических движений итальянской комедии…
А иногда скромная с виду брошюрка с портретом Леонардо на обложке (я интересуюсь даже его детством), с немецкой авторской фамилией и именем, заимствованным из «Нибелунгов», словно сорока на хвосте, приносит неожиданное откровение целой новой области, куда обрушиваюсь даже без поводыря. Если скажу, что брошюрка издательства «Современные проблемы» касается «Детского воспоминания Леонардо да Винчи» и принадлежит Зигмунду Фрейду, то обозначение «сорока приносит на хвосте» прозвучит очень точно и созвучно с описанным в ней соколом из детского сновидения Леонардо!
Удивительные слова описания сна…
Так совершается приобщение к психоанализу. Даже точно помню, когда и где. Почти что в первые дни официального создания Красной армии (весна 1918 г.), застающие меня уже добровольцем в военном строительстве. В Гатчине. Стоя в вагоне на пути в субботнюю побывку домой. Как сейчас помню. Коридор вагона. Рюкзак на спине. Папаха – пахнущая псиной. И вставленная в нее четверть молока.
Дальше на площадке трамвая, в неистовой давке, я так поглощен книжонкой, что не замечаю, как давно раздавили мою четверть молока и сквозь собачий ворс папахи и хаки рюкзака капля за каплей сочится молоко.
О рейдах моих по фантастическим джунглям психоанализа, пронизанных мощным дыханием первичной… «лебеды» (так непочтительно отзывался о священном импульсе libido), я пишу в своем месте.
Здесь вспомним только о том, что очень скоро я приобщаюсь к «Значению психоанализа в науке и духе» Ранка и очаровательного Закса – мудрой старой саламандры в роговых очках, с которым дружу значительно позже, проездом в Берлине.
Впрочем, в сборнике меня больше всего увлекают цитаты из трудов Задгера – об эротическом происхождении словообразований.
Занятно отметить, что после очень короткой потрясенности эротическим элементом происхождения (конечно, в высшей степени односторонней и спорной концепции) у меня очень быстро смещается акцент на интерес к происхождению – к истории развития, к видовому становлению языка. Этот ранний интерес к пристальному взгляду в прошлое оказался неплохим.
Однако это мы вынесем под заголовок «Слова, слова».
Здесь мы сейчас не в мире слов, их генеалогии, взаимосвязей движения и становления – здесь мы даже не в области любования ожерельями стихотворений из них или ковровым шитьем сочетания их в прозе. О встречах с поэзией и прозой мы скажем в другом месте.

<Монахи и бес>
И здесь остается только добавить, что с Фрейдом я так и не встретился, хотя Стефан Цвейг мне и устроил почти немыслимую встречу с этим трагическим Вотаном сумерек буржуазной психологии, с этим Прометеем, сумевшим собственную трагедию и травму расчленить на звенья сковывающих его цепей, без того чтобы быть способным ослабить их тяжесть – не говоря уж о том, чтобы, наподобие Худини, выскользнуть из них, или расковать их, или просто порвать. Проклятие познания, неспособного одолеть действие, лежит на всем психоанализе. Все за анализом. Удачным, иногда точным, порой блестящим и так часто разбивающимся на этапе необходимости «пережить», дабы избавиться.
Вспоминается другой старик – еще более шарлатанской науки. Граф Хэммонд, под псевдонимом Чеиро выпустивший не одну книгу о чтении линий руки. Его я знавал в Голливуде. Рядом маячат странные очертания рыжеволосой каунтесс[8] Хэммонд, слова, написанные еще Оскаром Уайльдом в его альбом… и странная бледная близорукая фигурка в черном, болезненно морщаяся, когда нас знакомят и он узнает, что я еду в Мексику. Огненно-рыжая каунтесс, наклонившись ко мне, объясняет: блеклый человечек – она не понижает голоса, – человечек глуховат, и вместе с тем он один из последних потомков Максимилиана и Карлотты. У меня нет под руками «Готского альманаха», чтобы установить, где и когда отмирают последние ростки этой ветки Габсбургского дома, справедливо и неумолимо подрезанные беспощадной мачетой Бенито Хуареса на чуждой им мексиканской земле, куда они вступали императором и императрицей. Мне кажется, что брак их был несчастлив и бездетен (кажется, этого придерживается и фильм Дитерле), и странный человечек, может быть, не более как один из стаи самозваных потомков кровожадных особ – графов и маркизов, князей и виконтов, которыми кишит кино-Калифорния.
Сказывается же он глухим.
А когда я случайно роняю монету, он вздрагивает и оборачивается, попадаясь, как тривиальнейший симулянт на пошлейшую уловку воинского начальника на призывном пункте!
Но дело не в нем, не в Карлотте и Максимилиане, и даже не в огненных волосах его Хэммонда супруги.
Дело – в правой руке самого каунта.
Еще в Кембридже (или это было в Оксфорде? – такую описку никто не простит!) во время лодочных состязаний он повредил себе руку: правую руку свел паралич. Левая рука считается рукой предрасположений – тайны свершений начертаны на правой.
Правая безнадежно стянута параличом – и, читая тысячи судеб из тысячи рук, каунт Хэммонд безнадежно отрезан от предугадания собственной судьбы…
Это роднит его с Фрейдом, чьи и так небезошибочные воззрения дополнительно скованы изъянами собственных дефектов психики – диспропорцией значения, которое придается эдипову комплексу. Это хорошо известно каждому, кто пролистывался сквозь его учение.
Чем-то это похоже даже на некоторые изъяны в системе Станиславского, так четко проступающие при сличении «Работы актера над собой» с «Моей жизнью в искусстве», столь многое раскрывающих для понимания нерациональных местами акцентов на частностях системы.
Встреча с Фрейдом так и не состоялась, и воспоминанием о хлопотах Стефана Цвейга осталась маленькая книжечка автобиографического очерка, присланная мне великим венцем с его характерным автографом с прописным «Ф» начала фамилии.
И как бы случайно она стоит, прислонившись к большому белому квадрату графологических исследований Чеиро, с размашистым росчерком посвящения каунта Хэммонда на память о нашей встрече…
* * *А иногда не сам находишь. Иногда «наводят». А почему-то упорно не принимаешь.
Имел два таких случая.
Таков D.H. Lawrence, которым позже (и посейчас) безумно увлекался.
В 1929 году меня усиленно старается приобщить к Лоуренсу Айвор.
В Лондоне. В удивительном узеньком (в три окна) домике на Лестер-сквере, где он жил рядом с домом издательства «Studio».
В 1941 году в «Интернациональной литературе» вижу фото разрушений Лондона от немецких бомб: дом «Studio» стоит, а рядом – груда развалин.
В нижнем этаже был крошечный и pretty expensive[9] ресторан с диваном вдоль стенки и столиками. Так узок, что привычное размещение столиков в нем было невозможно.
Vis-à-vis [10]какой-то Music Hall.
Кажется, в нем видел Карнеру до его выступления в Альберт-Холле в присутствии принца Уэльского (позже отрекшегося от престола).
По-видимому, для меня настолько существовал Джойс и только Джойс в литературе, что никакие иные фамилии had no appeal[11].
Рядом с Джойсом называли Лоуренса по признаку… цензурных запретов на «Улисса» одного и «Любовника леди Чаттерлей» другого.
Все проходило мимо ушей.
«Любовника» купил, ступив на палубу «S. S. Europe»[12] по пути в Америку.
Но никак не для чтения, а ради снобизма.
И не читал его очень долго.
Ни на пароходе. Ни в Штатах. Ни даже сразу в Москве.
Почему потом прочел – сам не знаю.
Но обалдел совершенно.
Затем выписал «Women in love»[13].
Прочитал злостную атаку на Лоуренса вообще в «The doctor at literature»[14], купленном из-за статьи о Джойсе.
И дальше – больше, стал охотиться за каждой книгой распухавшей «лоуренсианы».
Интересовало affinity[15] с моими взглядами на пралогическое.
Особенно блестяще это в этюдах по американской литературе.
На них нападаю тоже окольно.
Меня интересует Рокуэлл Кент.
Я его узнаю (помимо беглых репродукций с его путешествия по Аляске) толком по странной книжечке полукубического формата – черной с золотым заглавием, где его великолепные заставки, концовки и целые иллюстрации.
Все – на тему о китах.
Название книжки «Моби Дик».
«Моби Дик» – очень плохой фильм с участием в роли одноногого капитана Джона Барримора.
Когда-то видел.
Рисунки Кента великолепны.
Они меня интересуют двояко.
В первую очередь – в составе графических образцов для композиции кадра. (Иллюстрации к руководству, которое я планирую очень давно.)
Рядом с «Белыми ночами» Добужинского, «Версалем» Бенуа (для случаев композиции и необъятных горизонтальных партеров я имел дело с этой же проблемой при съемке пирамид и остатков храмов в Сан-Хуан-Тетиуакан), полотнами Дега (первопланная композиция), Караваджо (поразительные ракурсы и размещения фигур не «в поле кадра», то есть в контуре кадра, а в отношении к плоскости кадра) и т. д.



