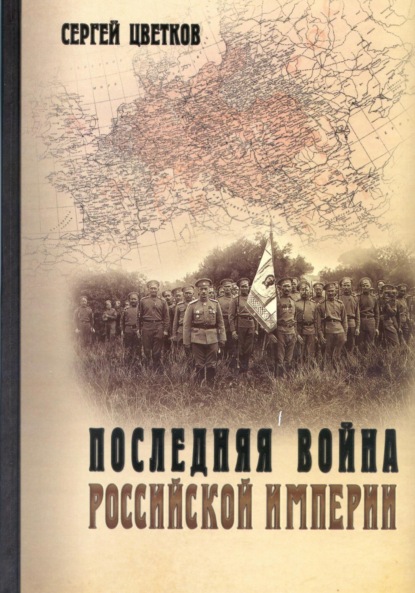
Полная версия:
Последняя война Российской империи
Некоторые из проводимых мероприятий стали известны германскому послу. Встревоженный Пурталес немедленно обратился к Сазонову за разъяснениями, но тот заверил его под честное слово, что мобилизация в России не проводится, речь идет о необходимых предосторожностях против Австрии.
В своих воспоминаниях Пурталес оценивал действия русского правительства следующим образом: «По-видимому, ни председатель совета министров Горемыкин, ни Сазонов не использовали своего влияния с должной энергией, чтобы доставить 25 июля торжество политике, направленной к сохранению мира. Несмотря на это, я не думаю, чтобы Сазонов хотел войны уже в этот момент. Однако он предавался роковой иллюзии, будто Германия, убедившись в решимости России на сей раз идти на последнюю крайность, оставит своих союзников в беде, и, таким образом, Россия и державы Тройственного согласия одержат дипломатический успех, который в то же самое время явился бы и компенсацией за дипломатическое поражение, понесенное ею в боснийском вопросе в 1909 году. При этом, по своей большой неопытности, чтобы не сказать наивности, в вопросах военного дела, он не отдавал себе отчета в великой опасности, которая заключалась в том, что, очевидно, уже 25 июля военным властям были даны очень широкие полномочия к началу военно-подготовительных мероприятий».
Действительно, в русской армии предмобилизационную подготовку восприняли недвусмысленно – как сигнал к неизбежной войне. Начальник мобилизационного отдела Генерального штаба генерал Сергей Константинович Добророльский выражал общее мнение военных, когда писал: «Война была уже предрешена, и весь поток телеграмм между правительствами России и Германии представлял лишь мизансцену исторической драмы. Отсрочка момента окончательного решения была, безусловно, весьма полезной для подготовительных мер».
Тем не менее, судьба Европы и всего мира еще несколько дней находилась в руках дипломатов. Сухомлинов свидетельствует, что «между 24 и 30 июля единственно за высшей политикой оставалось решающее слово… Сазонову-дипломату, а не военному министру дано было полномочие выбора вида мобилизации (частичной или общей) в зависимости от обстоятельств, хотя и с доклада государю».
Решительная позиция России смутила Бьюкенена, который находил действия Сазонова чересчур прямолинейными. Англичанин обратился за помощью к французскому коллеге: «Я не сомневаюсь более, что Россия идет до конца. Она взялась за дело всерьез. Я умолял Сазонова не соглашаться ни на какую военную меру, которую Германия могла бы истолковать как вызов. Надо предоставить германскому правительству всю ответственность и всю инициативу нападения. Английское общественное мнение не допустит мысли об участии в войне иначе, как при условии, чтобы наступление исходило непременно от Германии… Ради Бога, говорите в том же смысле с Сазоновым».
Но Германия сохраняла внешнее спокойствие. 26 июля Мольтке встретился с канцлером Бетман-Гольвегом. Несмотря на поступающие донесения о военных приготовлениях России, оба пришли к выводу: «До тех пор пока Россия не предпримет враждебных действий, наши старания должны быть направлены на локализацию конфликта». Военному министру начальник штаба сообщил, что считает «принятие каких-либо мер преждевременным».
Главным «делателем новостей» пока что была Вена.
25 июля Сазонов отправил Берхтольду телеграмму с просьбой предоставить Сербии отсрочку для ответа на ультиматум. Берхтольд ответил отказом.
Вечером 26 июля был получен сербский ответ. Над ним двое суток напролет работали лучшие умы сербского МИДа во главе с премьер-министром Николой Пашичем. Им удалось совершить невозможное. Искусно составленный документ поверг официальную Вену в панику. Сербы соглашались принять большинство требований, внося при этом в формулировки ничтожные на первый взгляд оговорки и изменения, обсуждение которых позволило бы оттянуть время. Дипломатическое мастерство сербов ставило Австро-Венгрию в невыгодное положение агрессора, готового развязать войну из-за редакционных поправок. Начальник канцелярии министерства иностранных дел барон Музулин назвал сербскую ноту «самым блестящим образцом дипломатического искусства, который только он знает». Берхтольд доложил императору Францу-Иосифу об «очень ловко составленном ответе» сербского правительства.
Лишь один-единственный пункт австрийского ультиматума был отвергнут – о допущении австрийских чиновников к производству следствия на сербской территории, «так как это было бы нарушением конституции и закона об уголовном судопроизводстве». На подобное унижение, означавшее фактическую утрату суверенитета, не могло пойти ни одно мало-мальски уважающее себя правительство. Впрочем, даже тут Сербия соглашалась передать этот вопрос на обсуждение конференции великих держав и обещала вполне подчиниться их решению. Но глава австро-венгерской миссии в Сербии барон Владимир Гизль не стал вникать в эти тонкости. Убедившись в том, что ультиматум принят не полностью, он в тот же день покинул Белград в специальном поезде. Согласования с министерством иностранных дел не требовалось – все инструкции были уже получены, архивы и вещи упакованы заранее.
В самой Австро-Венгрии отъезд Гизля вызвал всплеск антисербских выступлений. По улицам крупных городов прошли многотысячные манифестации с требованием наказать «банду убийц», как именовали сербов. Посольство Сербии в Вене едва не подверглось нападению толпы демонстрантов. В Боснии и Герцеговине начались сербские погромы.
27 июля в Потсдам из трехнедельного плавания по норвежским фьордам вернулся Вильгельм. Утром 28-го он ознакомился с сербским ответом и приписал на полях донесения: «Блестящее произведение за срок всего в 48 часов. Это больше, чем можно было ожидать. Большой моральный успех для Вены, но с этим отпадает всякий повод для войны… После этого я никогда не отдал бы приказа о мобилизации». По его мнению, все складывалось отлично, дело шло к локализации конфликта, и Австрия могла в одиночку разделаться с Сербией.
Находясь в самом отличном расположении духа, кайзер в 10 часов утра растолковал Ягову свое видение ситуации: «Я убежден, что пожелания Дунайской монархии в целом выполнены… Здесь объявляется всему миру самая унизительная капитуляция и в результате отпадает всякий повод для войны. Однако это только кусок бумаги, ценность которого весьма ограниченна, пока ее содержание не претворено в жизнь… Для того чтобы эти красивые обещания стали действительностью и фактом, необходимо применить мягкое насилие. Это следовало бы осуществить так, чтобы Австрия с целью побудить сербов выполнить обещания, оккупировала Белград и удержала его до тех пор, пока требования не будут действительно выполнены… На этой базе я готов сотрудничать с Австрией в пользу мира. Предложения, идущие против, или протесты других государств я буду безоговорочно отклонять…».
Протесты и идущие против предложения, разумеется, не замедлили последовать. Грей выразил надежду, что Австрия удовлетворится уступчивостью Сербии, унижение которой уже чрезмерно, и предложил созвать международную конференцию для разрешения кризиса.
В тот же день была получена телеграмма Николая II. «Рад твоему возвращению, – выстукивал телеграфный аппарат царское послание. – В этот чрезвычайно серьезный момент я прибегаю к твоей помощи. Слабой стране объявлена гнусная война. Возмущение в России, вполне разделяемое мною, безмерно. Предвижу, что очень скоро, уступая оказываемому на меня давлению, я буду вынужден принять крайние меры, которые приведут к войне. Стремясь предотвратить такое бедствие, как европейская война, я прошу тебя во имя нашей старой дружбы сделать все, что ты можешь, чтобы твои союзники не зашли слишком далеко».
На полях этой телеграммы Вильгельм злорадно пометил: «Признание его собственной слабости». Кайзер все больше убеждался, что Россия опять не выступит53.
Между тем германский канцлер призывал Вильгельма сделать какие-нибудь публичные жесты в знак одобрения мирных инициатив других стран. Иначе, предупреждал он, «бремя ответственности мировой войны» в конце концов падет на германское правительство «и в глазах германского народа. А на такой основе нельзя начинать и успешно вести войну на три фронта. Поэтому настоятельно необходимо, чтобы при всех обстоятельствах ответственность за возможное распространение конфликта… пала на Россию».
В то же время Бетман-Гольвег пояснял Чиршки, что «речь идет лишь о том, чтобы найти способ, позволяющий осуществить преследуемые Австро-Венгрией цели, обрезать жизненный нерв великосербской пропаганды, не развязывая в то же время мировой войны, а если она в конце концов неизбежна, то максимально улучшить условия, в которых ее придется вести». Германский посол должен был указать Берхтольду, что всякое промедление с началом военных операций против Сербии «грозит вмешательством других держав». Берлин настоятельно советовал союзнику «поставить мир перед свершившимся фактом».
На предложение Грея было решено ответить отказом. Вильгельм был окрылен сообщением своего брата, принца Генриха Прусского, который на днях, будучи в Лондоне, имел беседу с королем Георгом V. «Отдавая себе совершенно ясный отчет в серьезности настоящего положения, – сообщал принц, – король уверял меня, что он и его правительство ничего не упустят для того, чтобы локализовать войну между Сербией и Австрией». «Он, – продолжает Генрих, – сказал дальше дословно следующее: „Мы приложим все усилия, чтобы не быть вовлеченными в войну и остаться нейтральными”. Я убежден в том, что эти слова были сказаны всерьез, как и в том, что Англия сначала действительно останется нейтральной». Сведения, полученные по династической линии, значили в глазах Вильгельма гораздо больше заявлений министров. «У меня есть слово короля, этого мне достаточно!» – заявил он Тирпицу, который заметил, что Англия дает условные обещания, ни к чему ее не обязывающие. В душе Вильгельм ликовал, ибо английский нейтралитет стоил десяти выигранных сражений на континенте.
Все же Бетман-Гольвег убедил кайзера в ночь на 29 июля направить миролюбивую телеграмму царю. «Без сомнения, – говорилось в ней, – ты согласишься со мной, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы всех монархов, требуют, чтобы все лица, нравственно ответственные за это подлое убийство, понесли заслуженное наказание». «В данном случае политика не играет никакой роли», – уверял «Вилли». Понимая, что «Ники» трудно противостоять «силе общественного мнения», «искренний и преданный друг и кузен» обязался «употребить все свое влияние, чтобы побудить австрийцев действовать со всей прямотой для достижения удовлетворительного соглашения с тобой».
Все это писалось в то время, когда австрийская дальнобойная артиллерия и орудия Дунайской флотилии уже начали обстрел Белграда. Берхтольд решил форсировать события, «чтобы истребить саму мысль о всяких попытках вмешательства» других стран. Накануне он доложил императору о перестрелке с сербами на границе, хотя на самом деле все было спокойно. Франц-Иосиф дал согласие на объявление войны.
Весть о нападении Австро-Венгрии на Сербию застала Сазонова 28 июля, во второй половине дня, во время беседы с Палеологом, который официально объявил о «полной готовности Франции исполнить, если надо, союзнические обязательства». Вечером, с согласия государя, в Петергофе было созвано чрезвычайное заседание совета министров. На повестке дня стоял один вопрос – о мобилизации. В необходимости этой меры сомнений не было ни у кого, обсуждению подлежало лишь то, какую форму мобилизации следует предпочесть – частичную или сразу общую? Выяснилось, что мнения военных и штатских по этому поводу не совпадают.
Сазонов, а вместе с ним и царь, полагали, что на агрессию Австрии следует ответить частичной мобилизацией в Киевском, Одесском, Московском и Казанском округах, под которую подпадали 13 армейских корпусов численностью 1 100 000 человек. К общей мобилизации следовало переходить только в том случае, если на стороне австрийцев выступит Германии.
Начальник Генерального штаба Янушкевич возражал на это, что переход от частичной мобилизации ко всеобщей невозможен, так как мобилизационное расписание русской армии не предусматривало частичной мобилизации отдельных округов. Частичная мобилизация могла нарушить все расчеты и внести хаос в расписание железнодорожных перевозок. Таким образом, мобилизуясь только против Австро-Венгрии, Россия рисковала впоследствии оказаться беззащитной перед Германией.
Сазонов довольно быстро уловил суть дела, но убедить царя в необходимости немедленно объявить всеобщую мобилизацию удалось только на следующий день. По закону царский указ требовалось подкрепить подписями министров – военного, морского и внутренних дел. Военный министр Сухомлинов подписал бумагу молча. Однако когда начальник мобилизационного отделения генерал Добророльский явился к морскому министру, адмиралу Григоровичу, тот поначалу не поверил своим глазам: «Как, война с Германией? Флот наш не в состоянии состязаться с немецким». Только после звонка Сухомлинову, свидетельствует Добророльский, «он с тяжелым чувством приложил свою подпись».
На Елагином острове, у министра внутренних дел Маклакова «царила молитвенная обстановка». В красном углу министерского кабинета, на узком столе, покрытом белой скатертью, стояло несколько больших образов, перед которыми теплились лампада и несколько свечей. Министр тотчас заговорил о революционерах, которые, по его сведениям, с нетерпением ждали войны, чтобы начать новую смуту. «Война у нас, – сетовал он, – не может быть популярной; идеи революции народу понятнее, нежели победа над немцами… Но от рока не уйти», – закончил министр и, осенив себя крестным знамением, подписал документ.
Получив подписи министров, Добророльский поздно вечером отправился на Главный телеграф, чтобы отправить телеграмму по назначению. Но там его вызвал к телефону генерал Янушкевич и передал Высочайшее распоряжение о замене всеобщей мобилизации на частичную. Всю ответственность за это решение царь брал на себя.
Столь внезапная перемена в настроении Николая была следствием прочтения им новой телеграммы от «кузена Вилли», доставленной в Петергоф в половине седьмого вечера. Кайзер писал, что не может считать действия Австрии против Сербии «гнусной» войною, так как «Австрия по опыту знает, что сербским обещаниям на бумаге совершенно нельзя верить». По его мнению, «действия австрийцев следует оценивать как стремление получить полную гарантию того, что сербские обещания станут реальными фактами». Далее он сообщал, что Австрия не желает каких бы то ни было территориальных приобретений за счет сербских земель. «Потому я полагаю, – делал вывод Вильгельм, – что Россия вполне могла бы остаться наблюдателем австро-сербского конфликта, не вовлекая Европу в самую ужасную войну, которую она когда-либо видела… Конечно, военные меры со стороны России в Австрии были бы расценены как угроза и ускорили бы катастрофу, которую мы оба хотим избежать, а также повредили бы моему положению посредника, которую я в ответ на твое обращение к моей дружбе и помощи охотно взял на себя».
В ответной телеграмме Николай, с «верой в мудрость и дружбу» дорогого кузена, поделился с ним своим мнением, что австро-сербский конфликт следует передать на рассмотрение в Гаагский суд.
Это предложение Вильгельм пропустил мимо ушей, зато указал в своей третьей телеграмме (отправленной в ночь на 30 июля) на «печальные последствия» русской мобилизации и напомнил: «Теперь вся тяжесть решения лежит целиком на твоих плечах, и ты несешь ответственность за мир или войну».
Он был прав в одном: с этого момента судьба Европы решалась уже не в Вене, а в Петербурге и Берлине.
Мысль о губительности частичной мобилизации всю ночь не давала покоя генералу Янушкевичу. 30 июля, за час до полудня, он встретился с Сазоновым и Сухомлиновым, которые разделили его тревогу, признав необходимым добиться от царя нового разрешения на общую мобилизацию. От слов сразу перешли к делу. Янушкевич снял телефонную трубку и попросил соединить его с государем. Беседа их была недолгой. Выслушав доводы начальника Генерального штаба в пользу общей мобилизации, Николай сухо отрезал, что не намерен менять своего решения по этому вопросу, и заявил, что прекращает разговор. Но Янушкевич все-таки вставил, что у него в кабинете находится министр иностранных дел, который просит разрешения сказать несколько слов. На том конце провода на несколько секунд воцарилась тишина, затем государь велел пригласить Сазонова к аппарату. Тот обратился к Николаю с просьбой о приеме для неотложного доклада. Царь назначил аудиенцию ровно на три часа. Как только Сазонов положил трубку, Янушкевич взял с него слово немедленно поставить его в известность о благополучном исходе переговоров, чтобы он мог отдать необходимые распоряжения. После этого, заключил генерал, «я уйду, сломаю мой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать».
Спустя несколько часов Сазонов вошел в кабинет государя, преисполненный решимости получить то, за чем он явился. Он произнес энергичную 50-минутную речь, убеждая царя, что Германия последовательно срывает все попытки мирного исхода и хочет только выиграть время, чтобы закончить втайне свои военные приготовления – «это обстоятельство создавало для Германии громадное преимущество, которое могло быть парализовано нами, и то до известной только степени, своевременным принятием мобилизационных мер». Отдав приказ о всеобщей мобилизации, уверял Сазонов, царь «может себе сказать в полной уверенности, что его совесть чиста, что ни перед Богом, ни перед будущими поколениями русского народа ему не придется отвечать за пролитие крови, которое эта ужасная война принесет России и всей Европе».
Николай возражал, выражая всем своим видом крайнее волнение: «Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей! Как не остановиться перед таким решением!..» Но в конце концов сдался: «Вы правы. Нам не остается ничего другого, как приготовиться к нападению. Передайте начальнику Генерального штаба мой указ о мобилизации».
На часах было 16.00. Сазонов поспешил в нижний этаж к телефону. Передав Янушкевичу слова царя, он добавил: «Теперь вы можете сломать свой телефон. Отдайте ваше приказание, генерал, и исчезнете на весь день». Янушкевич ответил: «Мой аппарат испорчен».
На этот раз Добророльскому не пришлось метаться по всему Петербургу, собирая подписи. Все ответственные лица были в Мариинском дворце, где проходило экстренное заседание совета министров.
В шесть часов вечера, в полной тишине, застучали все телеграфные аппараты Генерального штаба, возвестив о вступлении России в новую эпоху.
Локализовать австро-сербский конфликт не получилось и теперь всех интересовало одно – как поведет себя Англия.
30 июля на Вильгельма пролился холодный душ. В первом часу пополудни он получил телеграмму Лихновски, который сообщил о своей встрече с Греем. Английский министр встретил германского посла словами: «Положение все более обостряется». Затем он заявил, что вынужден в частном порядке сделать ему некоторое сообщение, которое попросил не считать угрозой. «Британское правительство, – продолжил Грей, – желает и впредь поддержать существующую дружбу с Германией и может остаться в стороне до тех пор, пока конфликт ограничивается Австрией и Россией. Но, если бы в него втянулась Германия и Франция, положение тотчас бы изменилось, и британское правительство, при известных условиях, было бы вынуждено принять срочные решения. В этом случае нельзя было бы долго оставаться в стороне и выжидать. Когда разразится война, это будет величайшей катастрофой, которую когда-либо видел мир». Грей обещал, в случае принятия Австрией посредничества, «помочь ей получить всякое возможное удовлетворение». По его мнению, Австрия могла бы «добиться гарантий на будущее и без войны, которая ставит европейский мир под знак вопроса».
Взбешенный Вильгельм, не стесняясь в выражениях, разразился на полях донесения яростной филиппикой в адрес коварного Альбиона: «Британия открывает свои карты в тот момент, когда ей кажется, что мы загнаны в тупик и наше положение стало безвыходным. Гнусная торгашеская сволочь пыталась обмануть нас банкетами и тостами!.. К тому же это фактически угроза, соединенная с блефом, чтобы оторвать нас от Австрии, помешать мобилизации и взвалить на нас вину за войну. Он (Грей. – С. Ц.) совершенно определенно знает, что, если он скажет одно-единственное серьезное и резкое предостерегающее слово в Петербурге и Париже и порекомендует им нейтралитет, оба тотчас же притихнут. Но он остерегается вымолвить такое слово и вместо этого угрожает нам. Гнусный сукин сын! Англия одна несет ответственность за войну и мир, а уж никак не мы!».
В этот день кайзер засиделся за письменным столом, оставляя раздраженные пометы на поступающих донесениях. Читая телеграмму Пурталеса, он подчеркнул заявление Сазонова, что «отмена приказа о мобилизации уже невозможна, и в этом виновна австрийская мобилизация», и сопроводил слова русского министра пространными рассуждениями.
Царь, по мнению Вильгельма, виноват в том, что «он не чувствует себя достаточно сильным, чтобы приостановить мобилизацию». «Легкомыслие и слабость, – писал Вильгельм, – должны ввергнуть мир в самую ужасную войну, имеющую целью, в конечном счете, гибель Германии. В этом я в настоящее время нисколько не сомневаюсь. Англия, Россия и Франция сговорились, принимая за основу casus foederis54 в отношении к Австрии, повести против нас истребительную войну».
Возвращаясь еще раз к «циничным» заявлениям Грея, кайзер писал: «Это означает, что мы должны либо подло предать нашего союзника и предоставить его на произвол России и, тем самым, расколоть Тройственный союз либо подвергнуться нападению со стороны Тройственного соглашения за нашу союзническую верность… При этом из глупости и неспособности нашего союзника нам строят ловушку. Таким образом, пресловутое «окружение» Германии стало-таки непреложным фактом, несмотря на все попытки наших политиков и дипломатов…».
В конце Вильгельм предавался злобным фантазиям: «Теперь все эти козни должны быть беспощадно раскрыты, с них должна быть публично сорвана маска христианского миролюбия, и фарисейское притворство должно быть пригвождено к позорному столбу. Наши консулы в Турции и Индии, агенты и т. п. должны разжечь среди магометанского мира пламя восстания против этого ненавистного, лживого и бессовестного народа торгашей. Если нам суждено истечь кровью, то Англия, по крайней мере, должна потерять Индию».
Пустословие тоже имеет свои пределы, поэтому тут кайзер отложил перо. Безусловно, он пребывал в полнейшем смятении. Одно дело – размахивать горящим факелом перед пороховой бочкой, – и другое – увидеть, что фитиль занялся. Ярким свидетельством полной потери Вильгельмом способности принимать решения стала история с «Lokal Anzeiger», одной из самых читаемых в Берлине газет. 30 июля был момент, когда Мольтке удалось заставить кайзера дать согласие на мобилизацию. Известие об этом поспешили напечатать в «Lokal Anzeiger». Но Бетман-Гольвег буквально тут же убедил Вильгельма отозвать свое распоряжение. Весь тираж «Lokal Anzeiger» был немедленно конфискован. Однако русский посол в Берлине уже успел ознакомиться с сенсационной публикацией и своим сообщением переполошил русский Генеральный штаб.
Бетман-Гольвег, по свидетельству Тирпица, тоже «совершенно пал духом», «с ним невозможно было говорить». «Курс потерян, и лавина пришла в движение», – так он охарактеризовал общее положение на заседании совета министров. 30 июля рейхсканцлер забросал Вену шестью телеграммами, отменявшими одна другую. Но так или иначе в них содержался призыв продолжать мирные переговоры. «Если Вена откажется от всяких предложений, – предупреждал Бетман-Гольвег, – невозможно будет свалить на одну Россию одиум55 войны, которая может вспыхнуть».
Ближе к вечеру раздался решительный голос начальника немецкого Генерального штаба. Он смотрел на ситуацию как военный, для которого русская мобилизация требовала немедленного адекватного ответа. Австрийский военный агент в Берлине Бинерт, по поручению Мольтке, телеграфировал генералу Конраду: «Всякая потерянная минута усиливает опасность положения, давая преимущество России… Отвергните мирные предложения Великобритании. Европейская война – это последний шанс на спасение Австро-Венгрии. Поддержка Германии вам абсолютно обеспечена». Удивленный Конрад воскликнул: «Кто правит в Берлине, Бетман или Мольтке?»
Словно отвечая на этот вопрос, в ночь на 31 июля Мольтке уже сам телеграфировал в Вену: «Мобилизуйтесь немедленно против России. Германия объявит мобилизацию».
Германским дипломатам оставалось лишь искать союзников в надвигавшейся войне, которая с каждой минутой становилась все более неотвратимой. Главам правительств и министрам иностранных дел Италии, Румынии, Болгарии, Греции, Турции были отправлены телеграммы с требованием поддержать выступление против России.



