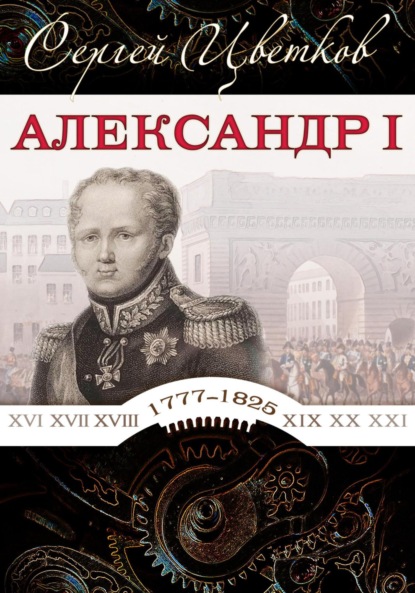
Полная версия:
Александр I
После этой встречи не проходило дня, чтобы Чарторийский не бывал у великого князя. Императрица благосклонно взирала на это сближение внука со знатным заложником. Следуя старым традиционным представлениям о блестящей польской аристократии, она считала полезным привлечь на сторону Александра влиятельную семью.
Дружба молодых людей приобретала черты тайного франкмасонского союза, которого не чуждалась и Елизавета Алексеевна. По утрам гуляли пешком. Александр любил ходить, обозревая сельские виды, и тогда с особенным пылом отдавался любимым разговорам. Он делился с князем Адамом своей заветной мечтой – увидеть установление повсюду на земле республиканского правления и заявлял между прочим, что наследственная передача престола есть несправедливое и бессмысленное установление, что передача верховной власти должна зависеть не от случайностей рождения, а от голосования народа, который в состоянии выбрать себе наиболее способного правителя.
Чарторийский, слишком хорошо знавший историю своей родины, возражал, что именно отсутствие у польский королей права наследственной передачи трона погубило Польшу и что именно неограниченная самодержавная власть отдала все преимущества в борьбе Речи Посполитой с Россией – России. Но и зло можно заставить служить добру. Неограниченная воля просвещенного монарха открывает в России возможности таких широких либеральных реформ, которые невозможны ни в одной республиканской стране, где правительство должно считаться с мнением необразованной толпы.
Споры приобретали еще более жаркий характер, когда к гуляющим присоединялся великий князь Константин. Он полностью разделял мнение отца о либерализме и республиках и приводил своим консерватизмом брата в такое бешенство, что однажды они подрались и, сжав друг друга далеко не в братских объятиях, покатились на землю.
Устав от политики, переходили к «красотам природы». Александр не мог пройти без восторга мимо полевого цветка или крестьянской избы, вид молодой бабы в нарядном платье вызывал в нем приятное получувственное, полуэстетическое волнение. Со вздохом он беспрестанно возвращался к своей мечте – сельские занятия, полевые работы, простая, спокойная, уединенная жизнь на какой-нибудь ферме, в уютном далеком уголке…
И вдруг, без всякого перехода, заговаривал о войсках, учениях, вахтпарадах и над полями разносилось одобрительное:
– Это по-нашему, по-гатчински!
***
«Блестящий век Екатерины» близился к концу. Империя все больше напоминала картину, написанную небрежными и размашистыми мазками, рассчитанную на дальнего зрителя. Вблизи глаз беспристрастного наблюдателя видел хаос, неурядицы и безнаказанные злоупотребления.
Осенью 1791 года по Петербургу разнеслась молва, что придворный банкир Сутерланд совершенно запутался в финансовых делах вследствие того, что удерживал казенные деньги, поступавшие к нему для заграничных переводов. Императрица назначила следствие, но банкир покончил с собой, не дожидаясь его окончания.
Следствие обнаружило, что Сутерланд раздавал казенные средства взаймы: князь Потемкин, князь Вяземский, граф Безбородко, граф Остерман и многие другие вельможи получили таким образом до двух с половиной миллионов рублей. Львиная доля добычи – восемьсот тысяч рублей – досталась светлейшему.
Императрица извинила Потемкина «многими надобностями по службе и нередкими издержками» и приняла его долг «на счет государственного казначейства». Владелица «маленького хозяйства» – Российской империи, – платившая по пятьсот рублей за пять огурцов для любимца и выделявшая пятнадцать тысяч рублей в год на угли для щипцов придворного парикмахера, не могла сердиться на милого друга за такой пустяк, тем более что она сама побуждала Потемкина жить на широкую ногу, чтобы пустить пыль в глаза иностранным послам.
Подобное отношение к казенным средствам было всеобщим. Бригадир граф П.А. Толстой, заведующий выборгским комиссариатом, рассказывал, что при пожаре выборгского замка с опасностью для жизни спас крупную сумму и на другой день представил ее «главнокомандующему», с которым был на дружеской ноге. Вместо благодарности за мужественный поступок бригадир услышал от начальника следующие слова:
– Ну что бы тебе стоило отложить себе миллиончик! Сошел бы за сгоревший, а награду получил бы все ту же.
Сановники, занимавшие самые ответственные посты, не стеснялись получать субсидии от иностранных дворов. Павел Петрович был убежден, что многие «сотрудники» матери подкуплены Венским двором и называл их имена вслух в беседе с герцогом Тосканским:
– Это князь Потемкин, секретарь императрицы граф Безбородко, Бакунин, графы Семен и Александр Воронцовы и Морков, который теперь посланником в Голландии. Я вам называю их, потому что буду очень рад, если узнают, что мне известно, кто они такие, и лишь только я буду иметь власть, я их высеку, разжалую и выгоню.
«Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства», – писала Екатерина в молодости. Сама она не только искренно желала блага России, но и была единственным государем после Петра I, кто понимал, в каком направлении следует двигаться. Но время и вязкое сопротивление, оказываемое колесам государственной телеги российской действительностью, гасили в ней былую энергию. Она с грустью сознавала это и в 1789 году говорила Храповицкому: «Старее ли я стала, что не могу найти ресурсов, или другая причина нынешним затруднениям?» В последние годы брожение умов, ею же вызванное, испугало ее саму и толкнуло на действия, недостойных ни ее ума, ни сана, вроде поступков с Новиковым и Радищевым. Оттолкнув от себя здоровые силы общества и убедившись в несбыточности своих преобразовательных планов, она утешала себя тем, что ее преемник будет следовать ее начинаниям и докончит «недостроенную храмину».
В 1794 году она сделала решительный шаг, объявив императорскому Совету, что намерена «устранить сына своего Павла от престола» по причине его «нрава и неспособности», в пользу великого князя Александра. Но к ее удивлению цесаревич нашел защитников в Совете. Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин возразил, что после вступления на трон нрав наследника может измениться, а граф Безбородко обратил ее внимание на худые последствия, которые может повлечь это решение, так как страна, по его словам, привыкла считать Павла Петровича наследником. Совет нашел их доводы разумными. Раздосадованная Екатерина приостановила дело.
Последнее радостное событие в ее жизни – рождение великого князя Николая Павловича – ненадолго отвлекло ее от государственных забот. Младенец вызвал в ней восторг – императрица любила здоровых детей, а этот был просто великан.
Екатерина II – Гримму, 25 июня 1796 года, из Царского Села:
«Объявляю страстотерпцу, что сегодня в три часа утра мамаша родила огромнейшего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас и кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих. В жизнь мою первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом».
Ему же через десять дней:
«Рыцарь Николай уже три дня кушает кашку, потому что беспрестанно просит есть. Я полагаю, что никогда осьмидневный ребенок не пользовался таким угощением; это неслыханное дело. У нянек просто руки опускаются от удивления; если так будет продолжаться, то я полагаю, что придется по прошествии шести недель отнять его от груди. Он смотрит на всех во все глаза33, голову держит прямо и поворачивает не хуже моего».
Затем она взялась за вопрос о престолонаследии с другой стороны. Пользуясь тем, что Павел Петрович уехал в Павловск, оставив жену в Царском Селе, она предложила Марии Федоровне подписать бумагу, содержавшую требование к цесаревичу отречься от престола. Великая княгиня с возмущением отказалась.
Дело вновь зашло в тупик, но вскоре последовало событие, которое заставило императрицу лично переговорить с Александром.
13 августа 1796 года в Петербург прибыл под именем графа Гаги молодой шведский король Густав IV. Его сопровождал дядя-регент герцог Зюдерманландский и многочисленная свита. Целью визита было устройство брака Густава IV со старшей великой княжной Александрой Павловной.
В ожидании приезда жениха императрица приказала великим княжнам и фрейлинам усовершенствоваться во французской кадрили, которая была в моде при стокгольмском дворе. Чтобы не ударить в грязь лицом перед королем, считавшимся самым блестящим женихом Европы, весь двор целыми днями занимался только этим.
Гость был принят императрицей с изысканной любезностью. Темно-синие шведские костюмы, напоминавшие древне-испанские камзолы, красиво смотрелись на балах. Великие княжны танцевали только со шведами. Пожалуй, никогда при петербургском дворе не оказывалось столько внимания иностранцам.
Король был принят великой княжной Александрой Павловной, как будущий жених. Все формальности поручили уладить графу Моркову.
11 сентября должно было состояться обручение. В этот день в большой придворной церкви Зимнего дворца собралось все высшее петербургское общество во главе с императрицей и митрополитом Гавриилом, который должен был совершить обряд обручения. Ждали жениха, но он все не появлялся. Прошел час, другой, третий… Недоумение публики все возрастало. Наконец, на исходе четвертого часа ожидания, Зубов подошел к императрице и прошептал, что шведский король отказался от своего намерения жениться на великой княжне.
Виной всему было легкомыслие Моркова. Он довольствовался устными обещаниями короля и его дяди и не позаботился перенести условия брачного договора на бумагу и скрепить их подписями обеих сторон. Поэтому, когда выяснилось, что великой княжне не разрешено переменить православие на веру жениха, Густав IV, рьяный лютеранин, отказался иметь жену-еретичку.
После слов Зубова с Екатериной сделался первый легкий припадок паралича. Однако она нашла в себе силы попросить извинения у митрополита Гавриила и всех присутствующих и приказала всем разойтись. Все же удар был слишком силен. На другой день она призналась, что ночь с 27 на 28 июня 1762 года (перед свержением Петра III) была ничто по сравнению с нынешней.
Петербург погрузился в угрюмое молчание. Шведами демонстративно манкировали. Все были изумлены тем, что произошло. Русские, привыкшие при Екатерине считать себя первыми людьми в Европе, не могли себе представить, что «маленький королек» осмелился так неуважительно поступить с самодержавной государыней всея России. Ждали немедленного объявления войны, но никаких демаршей не последовало. Выдержав приличную паузу, шведы тихо уехали.
Александр вместе со всеми был возмущен оскорблением, нанесенным его сестре. Довольная тем, что внук разделяет ее негодование, Екатерина решила использовать момент для ускорения передачи ему власти.
16 сентября, оправившись от потрясения, но уже не покидая спальни, она вызвала Александра к себе и впервые откровенно высказала внуку свои соображения о необходимости государственного переворота. Подробности беседы остались неизвестны. Единственным документом, позволяющим судить о реакции великого князя на предложение занять престол, является его письмо к бабке от 24 сентября:
«Ваше Императорское Величество! Я никогда не буду в состоянии достойно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше Величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручные пояснения к остальным бумагам34. Я надеюсь, что Ваше Величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной милости. Действительно, даже своей кровью я не в состоянии отплатить за все то, что Вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было сообщить мне и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам Вашего Императорского Величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самой неизменной преданностью
Вашего Императорского Величества всенижайший, всепокорнейший
подданный и внук
Александр».
Это письмо – образец придворной дипломатии – написано девятнадцатилетним молодым человеком. Что можно понять из него? То, что Александр одобряет все те соображения, которые ему представила бабка, но при этом письмо не содержит и намека на его личное отношение к ее доводам. Екатерина вольна была понимать слова внука, как ей вздумается, и она поняла их так, как ей хотелось. После беседы с Александром она удовлетворенно сказала своему окружению:
– Я оставляю России дар бесценный – Россия будет счастлива под Александром.
Однако существует и другой документ – письмо Александра Аракчееву, помеченное 23 сентября, то есть днем, предшествующим отправке письма к Екатерине. В нем великий князь называет отца «Его Императорское Величество», а не «Высочество», и это, конечно, не описка. Возможно, подозрительный Павел заранее привел к присяге своего старшего сына. Один современник передает также, что слышал от Александра следующие слова:
– Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат.
Как бы то ни было, Екатерина, уверенная в согласии внука, готовилась принародно объявить свое решение. Осенью в Петербурге распространились слухи, что 24 ноября, в день тезоименитства императрицы (называли также и 1 января нового года), последуют важные перемены. Говорили о якобы заготовленном манифесте, подписанном важнейшими лицами империи: Зубовым, Безбородко, митрополитом Гавриилом, Румянцевым, Суворовым и др. Нельзя сказать, что Павлу очень сочувствовали, лишь некоторые из россиян, по словам очевидца, желали видеть его на престоле, «не ведая сами ради чего».
Очевидно, если бы императрица дожила до следующего года, верноподданные увидели бы Александра на российском престоле на пять лет раньше, чем это произошло в действительности. Но судьба в этот раз избавила его от необходимости выбора между государственной пользой и сыновьим чувством.
***
Утром 5 ноября, несмотря на холод и туман, Александр вышел на привычную прогулку по набережной. Здесь он встретил князя Константина Чарторийского и, беседуя с ним, довел его до дома. Князь Адам, живший вместе с братом, увидев в окно великого князя, спустился вниз и присоединился к разговору.
Вдруг Александра окликнул запыхавшийся придворный курьер, сбившийся с ног в его поисках. Он сообщил, что граф Н.И. Салтыков просит его как можно скорее явиться во дворец. Великий князь в недоумении последовал за курьером.
В Зимнем Александр узнал, что с императрицей случился апоплексический удар. У нее уже давно опухли ноги, но она не выполняла ни одного предписания врачей, которым не верила, и употребляла народные средства, рекомендуемые ее служанками. Унижение, испытанное ею в истории с женитьбой Густава IV, стало последним ударом, который она уже не перенесла. Она проснулась, как всегда, в шесть утра, и пошла в уборную. Через довольно длительный промежуток времени дежурный камердинер, обеспокоенный тем, что государыня долго не выходит, рискнул приоткрыть дверь и в ужасе отпрянул: императрица без чувств лежала на полу, грудь ее хрипела, «как останавливающаяся машина». Ее перенесли на кровать, прислуга принялась хлопотала вокруг нее. При появлении в комнате верного Захара, придворного истопника, Екатерина приоткрыла глаза, поднесла руку к сердцу, выражая на лице мучительную боль, и впала в беспамятство – теперь уже навсегда.
Узнав о несчастье, Александр первым делом подумал об отце. Вызвав Ростопчина, он попросил его немедленно ехать в Гатчину, прибавив, что хотя граф Николай Зубов и послан туда братом, но Ростопчин лучше сумеет от его, Александра, имени рассказать о внезапной болезни императрицы.
Павел Петрович проводил этот день обычным образом: утром катался на санях, потом вышел на плац и прошел с дежурным батальоном в манеж, где произвел учение и принял вахтпарад; в первом часу отправился на гатчинскую мельницу к обеденному столу и возвратился во дворец без четверти четыре.
В это время приехал граф Николай Зубов. Когда цесаревичу доложили о срочном курьере из Петербурга, он в испуге сказал жене:
– Дорогая, мы пропали!
Наследник подумал, что Зубов приехал арестовать его и отвезти в замок Лоде – о таком исходе противостояния Павла Петровича и Екатерины давно поговаривали при дворе. Когда же он узнал об истинной причине визита брата фаворита, он пришел в такое волнение, что его любимец, граф Кутайсов, уже собирался позвать врачей, чтобы они пустили ему кровь.
Буквально через несколько минут в комнату вошел Ростопчин. Цесаревич встретил его радостным возгласом:
– А, это вы, мой дорогой Ростопчин! – и стал расспрашивать в подробностях о происшедшем.
Затем, как повествует камер-фурьерский журнал, «без малейшего упущения времени их императорские высочества соизволили из Гатчины отсутствовать в карете в Санкт-Петербург, ровно в четыре часа пополудни». Павел спешил напомнить всем о своем существовании – всего четверть часа понадобилось ему на сборы!
На пути в столицу цесаревич поминутно встречал курьеров, спешивших к нему с важным известием; он оставлял их при себе, и они составили предлинную свиту его кареты. По словам Ростопчина, в Петербурге не осталось ни одной души, кто бы не отправил нарочного в Гатчину, надеясь этим заслужить милость наследника. Даже придворный повар с рыбным подрядчиком, скинувшись, наняли курьера и послали его к Павлу.
Проехав Чесменский дворец, Павел остановил карету и вышел на воздух. Только теперь он в полной мере осознал значение случившегося и стоял, задумавшись, быть может, опасаясь ехать дальше. Был тихий, светлый вечер, луна скользила за облаками. Стояла глубокая тишина. Ростопчин, вышедший из кареты вслед за Павлом, подошел к нему и увидел, что цесаревич смотрит на луну и по щекам его текут слезы. Под впечатлением важности момента Ростопчин забылся и, схватив наследника за руку, произнес по-французски:
– Ах, Ваше Высочество, какая минута для вас!
Павел обернулся и крепко пожал ему руку:
– Надеюсь, мой дорогой, надеюсь, – сказал он также на французском языке. – Я прожил сорок два года. Господь меня укреплял. Может быть, Он придал мне силу и разум, нужные чтобы вынести положение, которое Он мне предназначил. Всецело полагаюсь на его доброту.
В девятом часу вечера Павел Петрович приехал в Зимний дворец, битком набитый людьми. Все со страхом смотрели на Павла, имея, говоря словами современника, только одно на уме: что теперь настанет пора, когда и подышать свободно не удастся.
Великие князья Александр и Константин встретили отца в мундирах своих гатчинских батальонов. Они обратились к нему уже как к государю, а не наследнику.
Павел с женой тотчас прошел к умирающей матери. Камер-фурьерский журнал, описывая это свидание, впадает в несвойственный ему лиризм: «Очи высочайших особ видели наипоразительнейшее зрелище. Его императорское высочество свою мать нашел в страдании болезни, лишенную всяких чувств. Кого сие не тронет? Сыновняя горячность и чувствительность не возмогла вынести сей болезненной скорби, возродила чувства темные сетования; их высочества пали перед лицом ея, лобызали руки! Трогательно сие поражало чувства у всех окружающих».
Поговорив с врачами, наследник уединился с Александром в кабинете и вызвал к себе Аракчеева, только что приехавшего из Гатчины. Когда гатчинский губернатор явился, Павел стал отдавать ему приказы по армии. Аракчеев был поражен размахом преобразовательных планов.
– Но Ваше Величество, – осмелился возразить он, – каких же сумм потребует подобное увеличение и содержание одной только гвардии?
– Успокойся, – ответил Павел, – не забывай, что теперь у нас будет не тридцать тысяч, а семьдесят миллионов.
Отдав все распоряжения, которые считал необходимым сделать, новый государь сказал:
– Смотри, Алексей Андреевич, служи мне верно, как и прежде.
И подозвав Александра, соединил их руки:
– Будьте друзьями и помогайте мне.
Великий князь, увидев, что мундир Аракчеева забрызган грязью от быстрой езды, обратился к нему:
– Ты, верно, второпях не взял чистого белья, так я дам тебе.
Он повел его к себе и выдал собственную рубашку. В этой рубашке Аракчеев, согласно его желанию, спустя тридцать восемь лет и был похоронен.
В 1826 году Аракчеев рассказывал в Киеве И.В. Мартосу, что в эту ночь Павел отдал ему еще одно, тайное, поручение, а именно – следить за Александром, как за бабушкиным баловнем, и доносить о каждом его шаге. Алексей Андреевич уверял Мартоса, что просил государя избрать для этой цели кого-нибудь другого, так как он, Аракчеев, не может позволить себе быть орудием несогласия между отцом и сыном. Выслушав его, Павел махнул рукой. Тем это поручение, по его словам, и окончилось. Этому рассказу можно верить – Аракчеев, при его собачьей преданности, конечно, не мог клеветать на Павла.
Видимо, в эту ночь на 6 ноября все бумаги об отстранении Павла от престола перешли при помощи Безбородко и Платона Зубова в руки наследника. Во всяком случае, камер-фурьерский журнал свидетельствует, что еще до смерти императрицы Павел приказал опечатать все ее бумаги и «сам начав собирать оные прежде всех».
Екатерина боролась со смертью еще тридцать шесть часов, ее страдания не прекращались ни на минуту. Вечером 6 ноября, без четверти десять она умерла, не приходя в сознание. Ей было от роду 67 лет, 6 месяцев и 15 дней.
Бог не судил ей увидеть предательство ее любимого внука, который, узнав о смерти бабки, довольно заявил, что теперь, слава Богу, ему не придется впредь «слушаться старой бабы».
***
Когда-то давно, еще в пору малолетства Александра, императрица распорядилась построить между Павловском и Царским Селом дачу для великого князя. Внук принял живейшее участие в планировке сада, в тенистых аллеях которого намеревался наслаждаться беседами с Лагарпом.
По мысли Александра сад должен был служить как бы живой иллюстрацией к сказке о царевиче Хлоре.
На крутом берегу реки вырос дом, рядом с ним находился шатер с золоченым верхом. От дома уходила прямая аллея, усаженная цветами. Она переходила в дорогу, ведшую через мост, украшенный трофеями, – по полю, на котором возвышался расписанный павильон; за павильоном стояла хижина, а напротив – каменная глыба с надписью: «Храни златые камни» – символ «незыблемой основы благосостояния России при Екатерине II», то есть ее Наказа35. Рядом с хижиной находился храм Цереры, за ним – водный ключ, посвященный Марии Федоровне, и пещера нимфы Эгерии – легендарной возлюбленной и мудрой советчицы римского царя Нумы Помпилия. Здесь вновь начиналась длинная аллея, которая упиралась в высокий холм, где стоял «храм Розы без шипов», с круглым куполом, поддерживаемым семью колоннами. Посреди храма был воздвигнут алтарь с урной «розы без шипов». Плафон был расписан фресками, изображавшими Петра Великого, смотрящего с небес на блаженство России, которая, в окружении символов богатства, наук и промышленности, опиралась на щит с изображением Фелицы. Чуть далее помещался орел, ломавший когтями рога месяца, трофеи и два ангела с крестом. У подножия храма блестело на солнце озерцо, по которому плавала миниатюрная флотилия.
Подрастая, Александр стал все реже посещать этот прелестный уголок, носивший название Александровой дачи. Затем для него наступил период полного забвения, олицетворявший чувства великого князя к бабке. Постепенно великолепный сад заглох, штукатурка и облицовка храмов осыпалась, озерцо высохло, павильоны заросли кустарником. К концу правления Александра время почти разрушило постройки и только где-то в глуши еще долго сохранялись печальные руины «храма Розы без шипов».
Часть вторая. Отцовская казарма
Характер века – caute!36
Спиноза
I
Взгляну – и каждый подданный трепещет.
Шекспир «Король Лир», акт IV, сцена 6 (пер. М. Кузьмина)
Как только врачи объявили о смерти императрицы, Павел, не теряя ни минуты, отдал приказ о приведении двора к присяге. Церемония началась в полночь в придворной церкви. Сначала генерал-прокурор граф Самойлов зачитал манифест о кончине императрицы Екатерины II и вступлении на престол императора Павла Петровича; наследником престола объявлялся цесаревич Александр. Затем приступили к присяге. Первой на верность государю и супругу присягнула Мария Федоровна. Поцеловав крест и Евангелие, она прошла на свое императорское место, обняла Павла и поцеловала в губы и глаза. Вслед за ней, по старшинству, присягали дети государя, – они целовали отцу руку, – потом митрополит Гавриил и духовенство, за ними – сановники и прочие. Все закончилось глубокой ночью панихидой у тела покойной императрицы.

