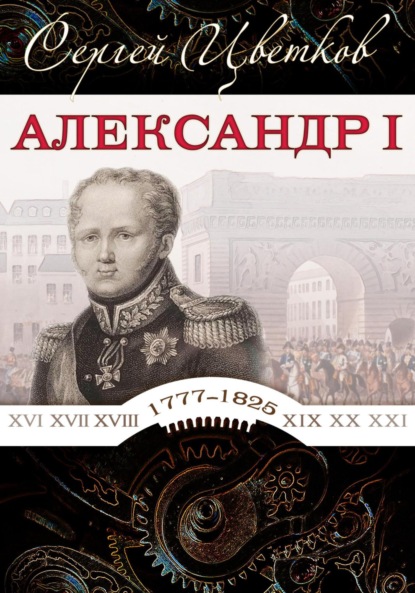
Полная версия:
Александр I
Зато в арифметике Алеша вскоре превзошел своего учителя. Он задавал сам себе такие большие числа для умножения, что дьячок и выговорить не умел; не выговаривал этих чисел и сам Алексей, что не мешало ему тешиться их умножением и получать несказанное удовольствие, когда проверка делением подтверждала правильность вычислений. Эта забава сделалась его любимым времяпровождением.
В одиннадцать лет с ним произошло событие, круто изменившее всю его жизнь. К соседнему помещику Корсакову приехали из шляхетского корпуса в отпуск два его сына – Никифор и Андрей. Аракчеев-старший поехал в гости к Корсаковым и взял с собой Алексея. Сидя за общим столом и слушая рассказы кадетов, мальчик с ужасом осознал, как ничтожны его собственные познания. Он не мог наслушаться их рассказов о лагере, учениях, стрельбе из пушек, но особенно поразили его красные мундиры братьев, с черными бархатными лацканами. «Мне казались они какими-то особенными высшими существами», – вспоминал об этой встрече Алексей Андреевич. За весь вечер он не проронил ни слова, но в нем зародилось необоримое желание учиться в шляхетском корпусе.
Возвратясь домой, он думал о кадетах дни и ночи, пребывая, «как в лихорадке». Наконец он бросился в ноги отцу и заявил, что умрет, если его не отдадут в шляхетский корпус. Андрей Андреевич, вспомнив молодость, согласился повезти сына в Петербург. Объявили об этом решении Елизавете Андреевне. «С Богом! – ответила она. – Коли на то Божья воля, ступай в кадеты». Впрочем, своей домашней властью она устроила так, что Алексей еще два года прожил в родительском доме. Однако впечатления от встречи с Корсаковыми в Алексее не ослабевали и после зимних святок 1783 года Андрей Андреевич собрался в дорогу – на долгих, с сыном и слугой.
Во время остановки на одной из станций отставной солдат Архангелогородского пехотного полка Мохов написал просьбу о вступлении юноши в корпус. С этой тщательно хранившейся бумагой отец и сын приехали в столицу. Здесь они полгода ежедневно ходили к командиру Артиллерийского и Инженерного шляхетского корпуса генералу Петру Ивановичу Мелиссино, – чтобы безмолвно попасться ему на глаза и не дать забыть о себе. Но все старания были напрасны. Деньги таяли, последние недели все трое ели раз в день. Наконец издержали последнюю копейку. От полнейшей безысходности Андрей Андреевич пошел с поклоном на двор к митрополиту Гавриилу и получил от него по своей крайней бедности милостыню – рубль серебром. Выйдя из покоев владыки на улицу, отец поднес рубль к глазам, сжал в кулаке и горько заплакал; вместе с ним зарыдал и Алексей. На владыкин рубль прожили втроем еще десять дней.
На одиннадцатый день, заняв свое место в приемной Мелиссино и дождавшись его выхода, Алексей Андреевич со слезами отчаяния бросился к нему:
– Ваше превосходительство, примите меня в кадеты… Нам придется умереть с голоду… Мы ждать более не можем… Вечно буду вам благодарен и буду за вас Богу молиться.
Тронутый его видом, Мелиссино вернулся в кабинет и вынес собственноручную записку для подачи в корпусную канцелярию. В этот счастливый день 19 июля 1783 года отец и сын с утра ничего не ели. Завернув из корпуса в ближайшую церковь, они благодарили Бога одними земными поклонами – поставить свечу было не на что. К счастью, у какого-то родственника им удалось раздобыть немного денег на обратную дорогу отцу.
Этот жестокий урок бедности и голода Аракчеев не забыл. Впоследствии, став всемогущим, тщательно следил, чтобы на поступающие к нему прошения немедленно клалась резолюция – отказа или исполнения.
Не имея ни связей, ни положения, ни денег, молодой кадет полагался только на двух помощников – свое усердие и милость начальства. Вскоре он стал числиться среди первых учеников. Ему удалось значительно улучшить свое деревенское образование. Он свободно читал по-французски (говорил значительно хуже), знал разговорный немецкий. В аттестации сказано, что Аракчеев «особенно отличился успехами в военно-математических науках, а к наукам словесным не имел особой наклонности». Сказались-таки детские забавы с цифирями!
Из сильно развитого у него чувства благодарности, Аракчеев не жалел сил, чтобы угодить Мелиссино. Его репутация отличного кадета способствовала тому, что в 1787 году, когда он был выпущен из корпуса с чином поручика, Петр Иванович оставил его при корпусе на должности репетитора с обязанностью учить кадетов арифметике, геометрии, артиллерийскому делу и фронту; помимо этого, ему почему-то поручили заведовать корпусной библиотекой. На строевых занятиях с кадетами Аракчеев впервые начал выказывать то «нестерпимое зверство», которое так сильно прославило его впоследствии. В русском человеке жестокость весьма часто соседствует с набожностью и любовью к порядку.
С этого времени дела Аракчеева пошли в гору. Он сблизился с главным наставником великих князей Н.И. Салтыковым, который поручил ему воспитание сына; Мелиссино оказывал ему покровительство, назначив своим адъютантом. Андрей Андреевич, прибывший в ту пору с Елизаветой Андреевной в гости к сыну, долго хмурился, глядя на окружавшую его «роскошь» – кожаные кресла и стол, покрытый зеленым сукном, – а потом спросил:
– Послушай, Алексей, скажи мне прямо, без утайки, как должен сын отвечать отцу: не воруешь ли ты, или не берешь ли взяток?
Подобные грешки за Аракчеевым не водились. Не получая денег из деревни, он жил на те средства, которые получал от репетиторства в корпусе и занятий с сыном Салтыкова; ему случалось подолгу ходить в одном и том же заношенном мундире.
В 1792 году Павел Петрович пожелал улучшить организацию артиллерийского дела в своих войсках и искал для этого сведущего артиллерийского офицера. Поскольку охотников до гатчинской службы было немного, он обратился за помощью к Мелиссино, и тот ответил наследнику, что такой человек у него есть.
4 сентября Аракчеев представился в Гатчине наследнику. Он легко усвоил сложные требования гатчинской службы, казавшиеся многим невыносимыми. На первый вахтпарад он явился безотказным автоматом, как будто век прослужил в Гатчине.
Шагистика, господствовавшая в гатчинских войсках, объяснялась тем, что Павел принял за образец устаревшее линейное трехшереножное построение прусской армии, с главным упором на залповый неприцельный огонь (полагались на устрашающий противника гром, а не меткость выстрелов). При таком способе ведения боя от солдат и офицеров требовалась виртуозная выучка, чтобы маневрировать, не нарушая строя. Усилиями Румянцева и Суворова боевое искусство русской пехоты шагнуло в то время далеко вперед – к построению колоннами, штыковому удару и прицельной егерской стрельбе, благодаря чему «образцовая» гатчинская пехота представляла собой живой экспонат из прусского военного музея. Однако у гатчинцев была одна несомненная заслуга перед русской армией, а именно – в организации артиллерийского дела. В конце XVIII столетия ведущими русскими полководцами было официально признано, что артиллерия не может играть решающей роли в победе. Это было тем более опасно, что в далекой Франции при осаде Тулона уже блестяще заявил о себе один молодой артиллерийский поручик по фамилии Бонапарт27. Именно в Гатчине была опробована та система организации артиллерийского дела – создание самостоятельных артиллерийских подразделений и новых орудий, повышение подвижности полевых орудий, широкое применение стрельбы картечью, превосходное обучение артиллерийских команд, – без которой русская артиллерия не смогла бы совершить свои славные подвиги в 1812 году.
Этот поворот в артиллерийской подготовке гатчинских войск начался с прибытия в Гатчину Аракчеева. Павел Петрович сразу заметил в нем «служаку» – Аракчеев не сходил с плаца или поля по двенадцати часов. Посетив вскоре его артиллерийскую команду, цесаревич подвел итог нововведениям одним словом: «Дельно». На ближайших артиллерийских учениях аракчеевская мортира послала точно в цель два ядра из трех. Алексей Андреевич сразу был произведен в артиллерийские капитаны и получил право обедать с наследником.
Для него началась новая жизнь.
На современников Аракчеев производил неприятное впечатление. Действительно, даже по наружности он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок, худощав и при этом сутуловат; на его длинной тонкой жилистой шее можно было изучать анатомию. На большой, безобразной голове выделялись мясистые ломти ушей и нависший над впалыми серыми глазами лоб. Щеки у него были впалые, нос широкий, с вздутыми ноздрями, рот большой. Его лицо представляло странную смесь ума и злости.
Прекрасно понимая, что роль светского человека при дворе наследника ему не по плечу, Аракчеев предпочел ей роль делового человека. Он поддерживал только служебные разговоры, за что язвительный Ростопчин немедленно окрестил его «гатчинским капралом». При дворе он стоял особняком ото всех, всегда и всюду преследуя лишь одну цель – как угодить Павлу. Ни разу он не обратился к цесаревичу ни с одной просьбой и, получая небольшое жалованье, тщательно уклонялся от всяких пособий и подарков. Павел тем более был благодарен ему, что средства, отпускаемые на содержание гатчинского двора императрицей, были весьма невелики.
Вспоминая годы гатчинской службы, Аракчеев говорил: «В Гатчине служба была тяжелая, но приятная, потому что усердие всегда было замечено, а знание дела и исправность отличены». К 1796 году он был пожалован чином полковника и назначен инспектором пехоты, начальником артиллерии, гатчинским губернатором и управляющим военным департаментом павловских войск. В это время о его жестокости уже ходили легенды: говорили, что он немилосердно хлещет по щекам не только солдат, но и офицеров, вырывает усы гренадерам; передавали даже, будто одному солдату он в припадке бешенства откусил не то нос, не то ухо.
Павел Петрович и жаловал любимца, и журил крепко. Раз, после одной чрезвычайно бурной служебной взбучки, Аракчеев со слезами вбежал в церковь, думая, что лишь милость Божия может помочь ему остаться на службе. Стоя на коленях и горячо молясь, он вдруг услышал за спиной звон шпор. В страхе он обернулся – так и есть: Павел!
– О чем ты плачешь? – спросил его цесаревич.
– Мне больно лишиться милости Вашего Императорского Высочества.
– Да ты вовсе не лишился ее, – сказал Павел Петрович, кладя руку ему на плечо. – Молись Богу и служи верно: ты знаешь, за Богом молитва, а за царем служба не пропадают!
– У меня только и есть, что Бог да вы! – со слезами выдавил из себя Аракчеев.
Когда они вышли из церкви, цесаревич остановился, внимательно посмотрел на Аракчеева и сказал:
– Ступай домой, со временем я сделаю из тебя человека.
***
Взрослая жизнь встретила Александра как-то двусмысленно, двулично. Отец и бабка предъявляли на него свои права, навязывали ему выбор между Эрмитажем и Гатчиной, то есть требовали от него то, что противоречило всему его предыдущему воспитанию – определить свои отношения с действительностью. Командуя одним из гатчинских батальонов, великий князь ежедневно с шести утра изучал жесткие, бесцеремонные казарменные нравы; возвращаясь вечером в столицу, он тайком, стыдясь, сбрасывал забрызганную грязью гатчинскую форму, над которой в Зимнем потешались, как могли, и в модном светском костюме являлся в Эрмитаж, где вокруг императрицы собиралось самое изысканное общество. Здесь говорили о последних политических новостях, блистали остроумием, смотрели лучшие французские пьесы, и самые неряшливые и скандальные дела облекали в пристойную форму, не оскорблявшую приличий и не задевавшую ничьих ушей. Этот внезапный переход из одного мира в другой ни на минуту не затруднял его: от казарменного непечатного лексикона он с легкостью переходил к изящным французским каламбурам.
В гатчинском дворце тоже было свое остроумие и свое злословие. Павел Петрович открыто осуждал правление матери, называя его узурпацией, и при всяком удобном случае пенял Александру его свободомыслием. Получив очередные новости из Франции, он обращался к сыновьям с удовлетворением человека, чьи предсказания полностью оправдались:
– Вы видите, мои дети, что с людьми следует обращаться, как с собаками.
И, случалось, что тем же вечером Екатерина рассуждала с Александром о правах человека, читала ему французскую конституцию, комментируя отдельные статьи, и разъясняла причины революции.
В гатчинских занятиях внуков императрица видела смешную карикатуру на воинскую службу и иногда, забыв о приличиях, в присутствии Платона Зубова и других вельмож, просила их спародировать фронтовые манеры отца. Александр делал это действительно забавно. Но бабка не замечала, что старший внук с отвращением глядит на ее фаворита, который около полуночи, зевая, вставал вслед за императрицей из-за карточного стола и с рассеянным видом направлялся в ее спальню, а утром как ни в чем ни бывало появлялся в приемной заспанный, в распахнутом халате, с растрепанными волосами…
Александр, по словам В.О. Ключевского, видел вокруг себя много грязи – изящную грязь бабушкиного салона и неопрятную грязь отцовской казармы. Но хотя он и писал Лагарпу, что весь преобразился, встает рано и целое утро работает по оставленному наставником плану, тем не менее у него не было привычки упорно трудиться, возиться в здоровой житейской грязи, пачкаться в которой сам Господь судил человеку: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Первая же помеха надолго отрывала его от занятий.
Екатерина не сумела ни занять его работой, ни разнообразить его времяпровождение; свои гатчинские обязанности Александр исполнял с рвением молодого человека, которому впервые поручено ответственное дело. Он еще по привычке подлащивался к стареющей бабке; отца же боялся смертельно и потому до изнурения утомлял себя службой. «Нынешнее лето я действительно могу сказать, что служил», – с гордостью писал он Лагарпу осенью 1796 года. На самом деле вся служба сводилась к пунктуальному исполнению различных мелочей – от этого неумения видеть вещи en grand28, наряду с пристрастием к парадомании29 – этой специфической болезни государей, – Александр не мог избавиться всю последующую жизнь.
Гатчинские учения повредили и здоровью великого князя. В шестнадцать лет он уже был близорук, как и его мать; а в 1794 году к этому прибавилась глухота в левом ухе. По собственным словам Александра, это произошло оттого, что на одном из артиллерийских учений он стоял слишком близко к батарее.
Молодости свойственен корпоративный дух, она охотно делит людей на своих и чужих. В принадлежности к отцовской гвардии отверженных было даже нечто привлекательное для Александра. Похоже, что в глубине души он считал себя офицером гатчинской, а не русской армии и часто самодовольно повторял, желая похвалить что-либо:
– Это по-нашему, по-гатчински.
Отвращение и страх, внушаемое людям из «приличного общества» отверженными, есть одно из сильнейших наслаждений для последних. Однажды, возвращаясь с плаца, Александр кивнул в сторону Царского Села:
– Нам делают честь, нас боятся.
Конечно, это была юношеская бравада; Екатерина не испытывала ни малейшего беспокойства от соседства с гвардией сына и великолепно спала под охраной всего роты гренадер.
Наконец, у него был третий лик – будничный, домашний. Но и здесь Александр раздваивался между ролью примерного семьянина и мелкими любовными интрижками. Ростопчин, не испытывавший снисхождения ни к кому, кроме себя, писал: «Ему вбили в голову, что его красота обеспечивает ему победу над всеми женщинами… Он найдет достаточно негодниц, которые заставят его забыть свои обязанности». Негодниц действительно нашлось предостаточно.
Порой он с тоской ощущал себя многоликим никем, вечно изменчивым Протеем30, чью сущность составляет внешняя кажимость, а иногда быть никем представлялось ему благодатным уделом по сравнению с утомительной обязанностью все время представлять кого-то. Он мог бы думать, что является самим собой в своих сентиментально-республиканских мечтах, если бы эти мечтания, так редко прорывавшиеся наружу, не представлялись ему самому нелепой случайностью. Нагруженный тяжелым балластом никому не нужных самоновейших политических идей и величавых античных образов, пустился он в путь по холодным, неприветливым волнам российской жизни. Устав от бесцельного плаванья и изнуряющей качки, он грезил о тихой гавани, где бы он мог укрыться от житейских бурь.
Александр – В.П. Кочубею31, 10 мая 1796 года:
«Да, милый друг, повторю снова: мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом.
Вот, дорогой друг, важная тайна, которую я уже давно хотел передать вам… Я обсудил этот вопрос со всех сторон. Надобно вам сказать, что первая мысль о нем родилась у меня еще прежде, чем я с вами познакомился, и что я не замедлил прийти к решению, на котором остановился.
В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно… Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы».
Интимные письма к Кочубею и Лагарпу не могли заменить живого задушевного друга, потребность в котором остро ощущалась Александром после отъезда учителя. Ему нужно было вновь почувствовать себя другом свободы, поборником истины и блага человечества. Одиночество может дать все, кроме чужого восхищения. Итак, был нужен другой.
***
В ту пору в Петербурге проживал на положении полупленника молодой князь Адам Чарторийский, принадлежавший к древнему роду, издавна занимавшему первостепенное место в Речи Посполитой. Его отец, Адам-Казимир, играл видную роль в политической жизни Польши: он занимал должность губернатора Подолии и, благодаря женитьбе на Изабелле Флемминг, наследнице обширных владений, обладал колоссальным богатством. Его даже выдвигали кандидатом на польский престол, но он сам снял свою кандидатуру в пользу Станислава Понятовского32. Княгиня Изабелла, женщина ослепительной красоты и безнравственности, принимала деятельное участие в судьбах Польши, за что получила прозвище «матка отчизны». Ее патриотизм, однако, не помешал ей сойтись с русским послом князем Н.В. Репниным, который и стал отцом князя Адама.
Чарторийские вынашивали планы коренных государственных преобразований Речи Посполитой, надеясь на поддержку России, Австрии и Англии. Разделы Польши разбили их мечты о реформах. Это время крушения надежд совпало с молодостью князя Адама (он родился в 1770 году) и сделало из него горячего сторонника политического возрождения родины.
Заботами родителей юноша получил чисто польское и чисто республиканское образование, то есть говорил по-французски лучше, чем на родном языке, был знаком с европейской литературой и без умолку рассуждал о конституции, подразумевая под ней древнюю шляхетскую вольность, ограниченную сильной исполнительной властью. Отправленный отцом в продолжительное путешествие заграницу, он возвратился в Польшу перед войной, приведшей ко второму разделу. Как участник военных действий, он вынужден был бежать в Англию, где познакомился с классическими конституционными учреждениями этой страны. Весть о восстании Костюшко вновь призвала его на родину, но по дороге домой он был арестован в Брюсселе австрийскими властями.
При третьем, окончательном разделе Польши имения Чарторийских были конфискованы русским правительством. Когда князь Адам-Казимир начал переговоры об условиях снятия секвестра, Екатерина II потребовала прислать в Петербург двух сыновей князя – Адама и Константина. Императрица обещала определить их в русскую службу, но Адам-Казимир отлично понял, что от него требуют заложников его верности России. Он не посмел действовать отцовской властью и предоставил сыновьям самим решать их судьбу. Адам и Константин ни минуты ни поколебались и в начале мая 1794 года приехали в Петербург. Пребывание при дворе Екатерины причиняло князю Адаму жестокие душевные страдания – в каждом русском он был склонен видеть виновника несчастий своей родины. Однако неожиданно для него печальная доля заложника сменилась заманчивым положением интимного поверенного душевных тайн великого князя Александра.
Это случилось весной 1796 года. В апреле, перед вскрытием Ладожского озера, когда лед, принесенный оттуда Невой, обыкновенно навевает в Петербург резкий холод, выпало несколько ярких солнечных дней, в течение которых набережные усеялись гуляющими дамами в изящных утренних туалетах и элегантно одетыми мужчинами. Александр также часто выходил на прогулки – один или с женой, что еще больше привлекало общество в эту часть столицы. При встречах с братьями Чарторийскими он начал останавливать их и вступать с ними в учтивую беседу.
Постепенно знакомство скреплялось все больше. Весной двор перебрался в Таврический дворец, где императрица по вечерам принимала избранное общество. Однажды, гуляя с князем Адамом, Александр неожиданно пригласил его как-нибудь пройтись вместе по дворцовому саду. Они условились о дне и часе.
Весна уже вступила в полную силу, сад и газоны были покрыты зеленью и цветами. Когда князь Адам явился на свидание, Александр взял его под руку и повел по садовым тропинкам, чтобы услышать мнение гостя об искусстве садовника-англичанина, устроившего дорожки сада так, что, идя по ним, нельзя было увидеть, где он кончается.
Прогулка растянулась на три часа, в течение которых они увлеченно беседовали. Вернее, говорил один великий князь, с жаром открывая перед гостем свою душу. Из его речей князь Адам узнал, что их с братом благородное поведение возбудило в Александре доверие и сочувствие к ним, и он почувствовал потребность объяснить им свой «действительный образ мыслей», так как ему невыносимо думать, что они считают его не тем, что он есть на самом деле. «Он сказал мне тогда, – вспоминал Чарторийский, – что совершенно не разделяет воззрений и принципов правительства и двора, что он далеко не оправдывает политики и поведения своей бабки и порицает ее принципы; что его симпатии были на стороне Польши и ее славной борьбы; что он оплакивает ее падение; что, в его глазах, Костюшко был великим человеком по своим доблестным качествам и по тому делу, которое он защищал и которое было также делом человечности и справедливости. Он признался мне, что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он не проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, равно должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересуется французской революцией; что не одобряя этих ужасных заблуждений, он все же желает успеха республике и радуется ему. Он с большим уважением говорил о своем воспитателе Лагарпе, как о человеке высоко добродетельном, истинно мудром, со строгими принципами и решительным характером. Именно Лагарпу он был обязан всем тем, что было в нем хорошего, всем, что он знал, и в особенности – теми принципами правды и справедливости, которые он счастлив носить в своем сердце и которые были внушены ему Лагарпом».
Несколько раз во время прогулки они встречали Елизавету Алексеевну. «Великий князь сказал мне, что его жена была поверенной его мыслей, что она знала и разделяла его чувства, но что, кроме нее, я был первым и единственным лицом, после отъезда его воспитателя, с кем он осмелился говорить об этом; что чувства эти он не мог доверить никому без исключения, так как в России никто еще не был способен разделить или даже понять их…»
Чарторийский и Александр расстались с выражениями самой искренней дружбы и обещали друг другу видеться как можно чаще.
Князь Адам уходил пораженный, не понимая, что это было – сон или явь? «Я был во власти легко понятного обаяния; было столько чистоты, столько невинности, решимости, казавшейся непоколебимой, самоотверженности и возвышенности души в словах и поведении этого молодого князя, что он казался мне каким-то высшим существом, посланным на землю Провидением для счастья человечества и моей родины». Он был во власти мыслей, от которых захватывало дух: здесь, в сердце вражеской страны, пользуясь дружбой с наследником содействовать освобождению Польши – какая невероятная, многообещающая перспектива!

