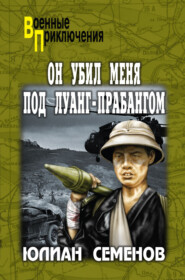скачать книгу бесплатно
Степанов быстро поднялся: неподалеку, возле пещер, густо белело, словно на утренней осенней тяге вдоль озера стелился плотный туман.
Мимо Степанова пробежал монах Ка Кху.
– Там в пещере дети! – крикнул он. – Там ясли для малышей!
Степанов ринулся туда, обогнав монаха. Споткнувшись возле пещеры, он упал в белый туман, горло его сдавил спазм, и глаза защипало. Он рассек ладонь, сильно ушиб колено, но рывком поднялся и побежал в пещеру, кашляя надрывно и сухо.
Фосфор засасывало в пещеру, словно в вытяжную трубу. Он стелился по полу. Две женщины в белых халатах, Ситонг и Ка Кху то и дело опускались в этот белый, удушающий, плотный туман и поднимали с нар маленьких детишек. Степанов тоже опустился на колени и нащупал в этом плотном, удушающем, тяжелом тумане двух недвижных детей. Он поднял их, прижав к груди. Сначала дети были недвижные по-прежнему, но, глотнув свежего воздуха – тяжелый фосфор не поднимался наверх, – они забились в пронзительном крике.
В пещере стоял страшный, пронзительный детский крик: квадратные рты детей, синие губы, набухшие веки, серые слезы, катившиеся по впалым щекам, – все это было нереальным из-за происходившего ужаса. На груди Ситонга болтался транзисторный приемник. Передавали концерт джазовой музыки; когда кончился твист, раздались аплодисменты и смех далеких людей, сидевших в концертном зале. Степанов побежал с детьми к выходу из пещеры, но Кемлонг крикнула:
– Нельзя! Обратно! Они сейчас будут кидать бомбы!
Кемлонг тоже опустилась на колени и начала ползать по пещере, ощупывая нары; но всех детей разобрали, и поэтому Кемлонг вытащила из белого дыма пеленки и одеяльца.
– Они фосфором выгоняют людей под бомбы из пещер, – сказала она, прижимая пеленки и одеяла к груди.
Чтобы унять дрожь, Степанов прижался спиной к стене пещеры.
Снова прогрохотали тяжелые взрывы, земля под ногами пошатнулась, и с потолка посыпались мелкие камни.
– Все, – сказал Ситонг, – они отбомбились. Надо детей отнести в госпиталь, это рядом.
И он длинно выругался…
02.44
Сначала Сара пыталась сопротивляться. Билл придавил ее своим тяжелым, мускулистым телом к жесткому матрасу. Он жадно целовал ее лицо, шею, а потом нашел ее рот. Сара вдруг почувствовала слабость, и в голове у нее все стремительно завертелось, и она ощутила себя – на какое-то мгновение, отрешенно и со стороны – чужой и податливой. Она чувствовала, как дрожали ледяные пальцы Билла, пока он неумело раздевал ее. А после, чем ближе был этот молоденький веснушчатый рыжий парень и чем страшней и нежней ей с ним было, тем больше ей хотелось, чтобы все это сейчас исчезло, ушло, а рядом с ней был Эд, а потом она вообще перестала чувствовать что-либо, кроме себя, только себя, и этого парня, который был с нею…
02.47
– Ты сошел с ума, – сказал Файн, увидав в дверях Стюарта с мадам Тань. – При чем здесь Са…
– Тэйк ит изи! – прикрикнул Эд. – Мадам Тань и я любим друг друга.
Тань засмеялась своим серебристым смехом.
– Мы не умеем любить, – сказала она, – мы умеем быть покорными, а вы принимаете это за любовь.
– Покорность – это и есть любовь, – сказал Эд. – Как ты думаешь, Файн? Ты же у меня теоретик.
– Я думаю, что покорность – это начало бунта. Женщина должна быть ершистой и злой. И обязательно неожиданной. Только тогда мужчина пойдет за ней на край света.
– Такой может быть любовница, – сказала Тань, – на короткое время. Только жадных и властных женщин пугают любовницы. Мужчины всегда возвращаются к покорным и любящим.
– Да? – спросил Файн. – Черт его знает. Может быть… Будете пить?
– Нет, благодарю вас, – ответила Тань.
– А ты, Эд?
– Я выпью. С удовольствием выпью виски. И совсем безо льда. Просто пару добрых глотков виски.
– Тебе же скоро лететь…
– К черту. Никуда я не полечу. Пусть они проедут и поблагодарят за это очаровательную и покорную мадам Тань. Пусть они спокойно проедут по равнине и помолятся за меня своему богу.
– Их бог, – задумчиво сказала Тань, – является также и моим.
– Ваш бог стал нашим, – засмеялся Эд. – Бог всегда на стороне сильных.
– Сказал Адольф Гитлер, – добавил Файн, – в одной из своих исторических речей. Не трогай бога, Эд, он не любит, когда за него говорят земляне.
– Ты веришь в Бога?
– Нет. А что?
– Просто занятно…
– Я его боюсь…
Тань сказала:
– Включите какую-нибудь музыку, а то вы погрязнете в своих философских спорах.
– Включи радио, дерево, – сказал Эд. – Дама хочет музыки и не хочет философии.
– Наоборот, – сказала Тань, – я хочу философии, но только такой, которая разумна. А ее сейчас нет.
Эд и Файн переглянулись.
– Вы всерьез интересуетесь философией? – спросил Файн.
– Я закончила университет в Дели.
– И вас не устраивает философия?
– Почему? Я люблю философию древних и нелюбимого вами Энгельса. А современной философии попросту нет – как можно ее любить или не любить? Нельзя любить несуществующее.
– Почему? – спросил Эд. – Мы ведь любим мечту. А это – несуществующее.
– Нет, – мягко возразила Тань и положила свою маленькую горячую руку на плечо Эда, словно сдерживая его. – Мечта существует, потому что существуете вы, прародитель мечты. Мечта – это неудовлетворенность прошлого, опрокинутая в будущее вашим настоящим.
Файн зааплодировал.
– Каждая эпоха, утвержденная научными открытиями, рождала свою философию. Когда научно утвердилась гидравлика, сменившая ручной труд на мельницах, родилась философия Вольтера и Руссо, философия революции. Когда утвердилось электричество, открытое практиками науки, родилась философия Маркса. А сейчас расщеплен атом и сфотографированы гены. Где философское обобщение этого?
– Боже мой, – сказал Эд, – вы, оказывается, тоже мыслящая женщина?
– Я думала, вам это нравится, – улыбнулась Тань. – Я это говорила для вас. Я люблю совсем другое… Женщина должна любить только то, что нравится мужчине.
Тань сняла кофточку. Спина ее была совсем открыта, грудь четко вырисовывалась под легкой тканью платья.
Файн увидел, как Эд смотрел на женщину, и сказал:
– Ну, счастливо. Я снова залягу в ванну.
Тань колокольчиком рассмеялась.
– Нет уж, – сказал Эд. – Лучше ты не занимай ванну. Она может в любую минуту понадобиться.
– Кому? – ухмыльнулся Файн.
– Нам, – ответил Эд и положил руку на мягкую коленку мадам Тань.
02.44
Художник был в пещере не один: в углу, на нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали три мальчика и, чуть поодаль, старуха, прижавшая к себе младенца.
– Его зовут Кхам Бут, – сказал Ситонг. – Знакомься, Степанов.
– Здравствуйте.
– Добрый вечер. Как ваше здоровье? Как добрались, не очень ли устали в дороге?
– Спасибо, все в порядке.
– Пожалуйста, протяните вашу левую руку, – попросил художник.
Степанов вытянул руку, и Бут, достав из нагрудного кармана толстую нитку, начал обвязывать его запястье. Он никак не мог управиться одной своей левой рукой, нитка то и дело выскальзывала у него из пальцев. Степанов заметил, как у Бута под кожей, возле ушей, перекатывались острые желваки.
– Помочь? – спросила Кемлонг.
Бут, не отвечая ей, продолжал завязывать нитку на запястье.
– Ты не торопись, – посоветовал Ситонг. – Не торопись, и все получится.
Бут выронил нитку и, взглянув на Кемлонг, сказал:
– Рыбка выскользнула. Кемлонг, хоть ты у нас и неуклюжая, все же теперь ловчей меня. Завяжи ему ниточку ты.
– Это обычай, – пояснил Ситонг, – ниточкой он привязывает к твоей руке свою душу, чтобы она оберегала тебя на этой войне.
Кемлонг обвязала ниточкой запястье, стянула узелок и сказала:
– Кхам Бут, гость хочет посмотреть твои рисунки. Ему интересно, как ты рисуешь…
– Рисовал, – поправил ее художник и жестко усмехнулся. – Птичка пела, а ворона только каркает.
– Э, – поморщился Ситонг, – рисовать можно и левой рукой. Рисовать – не стрелять, – добавил он и засмеялся. – Правда, Степанов?
Кхам Бут внимательно посмотрел на Степанова, который ничего не ответил.
– У меня в Москве много друзей-живописцев, – сказал Степанов. – Я люблю сидеть у них в мастерских.
– Запах скипидара? – улыбнулся Бут. – Живопись имеет приятный запах, да? Я мало знаю художников. Когда я учился в Америке, я часами простаивал возле картины русского художника Кандинского «Я и моя деревня». Я думал, что он это писал и про мою лаосскую деревню.
– Спасибо, – тихо сказал Степанов, не в силах отвести взгляда от громадноглазого, худого лица Бута.
– Он что, твой родственник? – спросил Ситонг.
– Кто?
– Ну, этот… Русский художник в Америке?
– Нет. Почему?
– Зачем же ты благодаришь?
Кхам Бут снова усмехнулся. Усмешка его была жесткой и внезапной.
– Пошли, – сказал он, – я покажу вам кое-что. Вообще-то все – мура. Я только начинал искать.
Он зажег еще один керосиновый фонарь и достал из-под циновок два блока. Первый – большой, коричневый – он отложил в сторону, а тот, что был поменьше, открыл резким жестом, будто дирижер, начинающий работу. Он начал неторопливо раскладывать по кремневому полу пещеры свои рисунки. Живопись его была пронизана синим громадным солнцем.
– Любите Ван Гога?
– Очень. Заметно, что подражаю?
– Не подражаете. Продолжаете. Подражателем быть плохо, продолжателем – почетно.
– Спасибо.
Ситонг снова засмеялся:
– Неужели все художники только и благодарят друг друга?
– Какой ты черствый, – сказала Кемлонг. – У тебя совсем огрубело сердце.
– У вас солнца через край, – сказал Степанов, разглядывая живопись. – И трав тоже.
– Через край? – не понял Бут.
– Это значит много, – пояснил Степанов.
– Пишешь всегда то, что хочется видеть. Мы же лишены здесь солнца.
– Вы любите музыку?