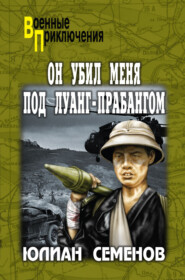скачать книгу бесплатно
– Просто так. Вы станьте здесь, а я отойду вот туда.
– Куда?
– Здесь есть уступ.
– Вы как кошка – видите в темноте?
– А разве кошки видят в темноте?
– Еще как.
Кемлонг усмехнулась:
– Не зря, значит, женщин считают кошками.
Она запела, и голос ее сейчас был совсем иным – низким и гулким.
– Теперь пойдем дальше, – сказала она, – в следующей пещере будет иначе.
– Я ничего не вижу, Кемлонг.
– Я тоже, – улыбнулась она.
Степанов слышал ее шаги, а потом почувствовал ее рядом с собой – близко-близко.
– Когда война, – шепотом сказала она, – очень хочется любить кого-то, кто сильнее.
Степанов чувствовал, что она хочет, чтобы он обнял ее. Это всегда чувствуешь.
Она вздохнула и сказала:
– Пошли в следующую пещеру. Я ее зову веселой.
Кемлонг снова взяла его за руку и повела за собой.
– Здесь опустите голову. Сейчас повернем налево. Вот здесь. Стойте.
Она отошла от Степанова, и он услышал иной голос, повторявшийся разнозвучащим эхом:
Какая же она, любовь?
Огромная, как облако, или маленькая,
как опавший лист?
Кто видел ее – глаза в глаза?
Никто, никто, никто…
А счастье какое? Светлое, как утро,
или пронзительное,
Как одинокие сумерки?
Кто ответит мне?
Эхо, мое эхо, только эхо…
00.40
– Мы с тобой люди разных скоростей, Сара. Каждому человеку сообщена своя скорость. Так вот, наши скорости, как выяснилось, не совпали.
– Пойдем танцевать, Эд. Бог с ними, со скоростями.
– Я не хочу танцевать.
– Я прошу тебя, Эд… Я тебя очень прошу…
– Я не буду танцевать, – повторил он и сразу же подумал: «Зачем я говорю с ней так? Ведь она – единственный человек на земле, который меня любит. Она знала меня вывернутым наизнанку и все равно любит меня. Она знала про всех моих баб и все равно любила меня. У меня у самого комплекс неудовлетворенности – при чем здесь она?»
– Ну, представь себе, что я вернулся, Сара. Что будет?
Она ответила:
– Не знаю.
– Хорошо, ты не знаешь… Тебе легко ничего не знать. Ты всегда пряталась за мою спину: «Эд все знает, он что-нибудь придумает!» А как быть с Уолтом? Как быть с нашим мальчиком?
– Что – мальчик?! При чем здесь мальчик? Не прячься за Уолта. Поживет с отчимом – в конце концов.
– Это запрещенный прием.
– Почему? Ты можешь делать мне больно, а когда я говорю правду – это запрещенный прием?
– Сара, я живу на этом свете только для того, чтобы могли жить вы.
– Ты врешь. И самое отвратительное, что ты сам веришь в эту ложь! Мы здесь ни при чем: ни Уолт, ни я. Ты же все время ищешь! Себя, свою литературу, правду, ложь! А главное – ты ищешь ту, которая тебе нужна, которая вернет вдохновение, съеденное твоим безденежьем и моими скандалами. Ты же сам сказал мне, что у каждого мужчины есть своя женщина-мечта. Вот ты и ищешь эту мечту, а из-за того, что их нет на свете, этих женщин, ты мечешься, а я схожу с ума и старею, разрываясь между собой, Уолтом и тобою. Это так жестоко и нечестно, Эд. Я ни о чем тебя не прошу. Я хочу правды. Понимаешь? Правды и определенности. Я же обыкновенный человек, Эд… Я не могу как ты… Я хочу обыкновенного маленького счастья, а оно всегда маленькое – это настоящее счастье. Большим бывает только горе.
Когда ему стало совсем плохо, он поехал к знаменитому писателю. Он так запутался в простых сложностях этого мира, что решил поехать к тому знаменитому писателю, который жил безвыездно у себя на ферме: издатели сами приезжали к нему по первому же вызову.
– Научитесь смотреть вокруг себя, как биолог, препарирующий лягушку, – говорил тот, расхаживая по громадному холлу, отделанному мореным дубом, вывезенным из старинного британского замка. – И не лезьте на стенку. Не ищите ничего в сфере чувствований. Мир определяют формы собственности. Я сделал обрезание этой мудрой марксистской догме. Мы отменили рабство, это было непопулярным по форме, но суть рабства царствует в мире: из каждых двух один мечтает быть собственником другого. Это повсеместное явление: в любви, стоматологии, ядерной физике, сельском хозяйстве. Это справедливо. Стюарт, это справедливо, как ни грустно мне это говорить. Иначе и не может быть, потому что тогда начнется хаос. Что будет с деревьями, если они перестанут принадлежать земле? Или с вашими руками, если они перестанут принадлежать туловищу? Наша демократия – это хаос, но при этом же – преддверие научно продуманного, демократичного по форме рабства. Мы все на грани рабства, Стюарт. Нам говорят, что мы свободны, и нам лгут, но если нам скажут правду, если нам скажут, что мы – рабы, – о, вы поглядите, какая тогда начнется потасовка!
Эд слушал писателя и чувствовал острую ненависть к этому человеку в красной дырявой нелепой кацавейке, который расхаживал по своему громадному барскому холлу и, потешаясь, говорил о том, что терзало мозг и сердце Стюарта.
– А что же делать? – спросил Эд.
Писатель долго смеялся.
– Откуда я знаю, – ответил он, по-прежнему смеясь. – Я не знаю, что надо делать. Все равно вы ничего не поделаете с безумием этого мира. Лучше смотри-те на это безумие со стороны и помните: нет на свете ничего страшнее, как неудачники-правдолюбцы. Они всегда торопят процесс, а исход один – кровь. Так лучше пусть это будет после нас, а?
Прилетев в Нью-Йорк, Эд бесцельно бродил по городу, путаясь в темных коридорах улиц. Потом он зашел в клуб, где собиралась богема. Раньше он находил здесь успокоение, ему было спокойнее, потому что люди, собиравшиеся здесь, говорили так же, как он писал. Он тогда пил с ними вместе и говорил, никого не слушая, а когда говорили другие, он готовился к ответу и совсем не слушал, что они говорили.
А сейчас он сидел в углу молча и не пил, а просто пытался впервые в жизни понять – о чем же говорят те, кого он считал своими, кого он считал больной совестью страны. Они сейчас, как и всегда, бушевали и спорили, и каждый из них – Эд увидел это очень рельефно, будто при вспышке фотоблица – говорил лишь для себя, о себе и про свое.
«Это же все бездари, – думал он тогда, – и к тому же лентяи. Им надо сидеть за письменным столом, а не за ресторанным. Они импотенты, они ничего не могут. Они могут только хулить, но чтоб создать – нет…»
Он поехал к Маффи.
– Я на лопатках, – сказал он тогда. – Пошлите меня куда-нибудь к чертовой матери, я сделаю для вас то, что вам нужно.
– Я подумаю, – ответил Маффи очень серьезно, – спасибо за предложение.
Назавтра он разыскал Эда, пригласил его к себе и сказал:
– В пустыне есть сказочный шейх. Как вы относитесь к сказкам? Я надеюсь – хорошо? Так вот этот шейх проводит ряд интересных комбинаций в своем княжестве: он занятен как личность. Он – хозяин нефти. Естественно, им интересуется и Насер, и русские, и евреи, потому что этот шейх верен нам: у него наши базы и наши советники. В вас, видимо, аккумулировалось много злости. Поезжайте туда и, если шейх вам покажется таким же занятным, каким он кажется «Стандарт ойл», – поддержите его и дайте по зубам тем, кто хочет ему мешать.
Эд знал, что газета Маффи связана со «Стандарт ойл». После года метаний он испытал огромное облегчение, получив задание от другого человека. Он больше не мог жить как раньше: сердце говорило одно, мозг – другое. Руки поэтому не работали. И он полетел на Восток.
00.57
Кемлонг вела Степанова по узенькой дорожке в горы.
– Здесь недолго, – сказала она, – совсем рядышком, на вершине.
– Фонарик можно включить?
– Не надо. Я все вижу.
– А я ничего не вижу.
– Вы идите за мной – шаг в шаг.
– Я так и иду. А где он живет?
– В хижине.
– А бомбежки?
– Он вырыл бомбоубежище. Правда, оно плохое. Оно же не в скалах…
– Почему ему не спуститься в долину? Там можно жить в скалах, это безопасней.
– Он не может оставить дерево «табу».
Они вышли из леса. Тропинка казалась покрытой льдом: так холодный свет луны отражался в маленьких лужицах, оставшихся после недавнего дождя. Эта ледяная, в алюминиевых бликах тропинка вела к одинокому громадному дереву. Ветви его были без листьев, ствол разбит молнией, но дерево казалось могучим и грозным. Черный, четкий рельеф его впечатывался в звездное безмолвие. Звезды здесь были очень яркие, и поэтому небо казалось голубоватым из-за ярко-зеленого перемаргивания далеких светил.
Кемлонг подвела Степанова к маленькой хижине и негромко позвала:
– Бун Ми!
Никто не отвечал.
– Бун Ми! – повторила Кемлонг.
Снова никто не ответил.
Она поднялась по маленькой лесенке в хижину.
– Кто?! – услыхал Степанов гортанный, страшный, похожий на карканье голос.
– Это я, – ответила Кемлонг.
– Кто?! – еще более сердито прокричал кто-то невидимый каркающим голосом.
Кемлонг тихонько засмеялась и стала что-то шептать; Степанов не мог разобрать слов, которые она говорила, но по интонации можно было понять – она шептала что-то очень ласковое и нежное: так говорят с грудными младенцами.
– Зачем?! – прокаркал злой голос.
– Кемлонг, – позвал девушку Степанов, – мне можно туда?
– Сейчас, – ответила она и вышла из хижины. В руках у нее был большой попугай. – Старика нет, – сказала она, – это говорит его птица.
– А где старик?
– Может быть, спустился вниз, за патронами и солью. Вчера на машине привезли товары.
Степанов пошел к дереву «табу».
– Нельзя! – прокричал попугай.
– Не надо, – попросила Кемлонг.
– Почему? Ты веришь, что оно действительно «табу»?
– Я не знаю, – Кемлонг пожала плечами. – Так здесь все говорят.
– Что будет, если я подойду к дереву «табу»? – улыбнувшись, спросил Степанов.
– Старики говорят, что этого нельзя делать: будет горе.
– Прямо сразу, на месте?
– Да. Говорят, что каждый, тронувший это дерево, испепелится.
Степанов пошел к дереву. Его ветви казались руками, открытыми для объятий.
– Нельзя! – снова прокричал попугай, но Степанов уже был возле дерева. Он тронул кору. Она была теплой.
– Хватит, – услышал он голос у себя за спиной.
Он обернулся: Кемлонг стояла рядом, закрыв попугаю глаза.
– Зачем ты подошла? Ты же боишься.
– Я боюсь, когда одна.
– А со мной не страшно?