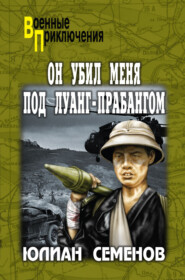скачать книгу бесплатно
– Я знаю, отчего вы меня об этом спросили, – сказал художник. – Ваш композитор Скрябин делал музыку цвета.
– Верно.
– Интересно бы это посмотреть. Вообще, я думаю, живопись не нуждается в музыке. Если это самовыражение художника – там обязательно будет и музыка, и скульптурная форма, и философия.
– А что во втором блоке? – спросил Степанов и потянулся рукой к плоской коричневой папке, лежавшей поодаль.
– Это – так, ерунда, наброски, – ответил Бут, – это совсем неинтересно.
Он как-то слишком торопливо поднял блок, чтобы забросить его под циновку, поэтому блок выскользнул из его пальцев, и на пол посыпались рисунки. Это были одни только портреты Кемлонг: вот она смеется, а вот поет, а здесь – купается в зеленом пруду.
Художник метнулся растерянным взглядом, увидел застывшее лицо Кемлонг и, опустившись на колени, начал ползать по полу, суетливо собирая рисунки. Степанов опустился рядом с ним и помог ему собрать рисунки.
– Спасибо, – сказал Бут и снова метнулся взглядом по пещере: Кемлонг уже не было.
– Ну что? – спросил Ситонг, отхлебнув холодного чая. – Пора трогать, а? Надо ж равнину проскочить в сумерках. Мы там как мишень: голое место… Ни камня, ни деревца… А то, может, поживем тут денек? А?
– Нет, поедем, – сказал Степанов.
Он очень торопился сейчас, потому что ему надо было как можно скорее рассказать людям про то, что он здесь увидел.
– Скажи ему, чтоб он не горевал, – сказал Ситонг. – Вы ж одного поля ягоды – ненормальные… Скажи ему, что прожить можно и без руки.
– Прожить, – кивнул головой Бут. – Именно – прожить.
– Будто ты не можешь жить без этих своих рисунков… – сказал Ситонг.
Кхам Бут поглядел на Степанова, словно ища у него защиты.
– Жить – нельзя. Прожить – можно.
– Брось, – сказал Ситонг. – Надо только сказать себе злое слово. Надо уметь быть сильным.
– Сильнее себя человек быть не может, – сказал Степанов.
– Может, – упрямо повторил Ситонг. – Может. Человек все может.
– Я пробовал рисовать левой, – словно оправдываясь, сказал Бут, – но это очень плохо. Я почувствовал себя немым: все слова слышу, а сказать ничего не могу. Я пробовал к этой культе, – он тряхнул обрубком правой руки, – привязывать кисть. Ничего у меня не вышло, мазня одна… Вышла мазня… Я говорил себе: если ты настоящий художник, пусть тебе отрубят обе руки – не погибнешь; если есть что сказать людям – ты скажешь этой песней. Пусть отрежут язык – ты все равно будешь думать свое. Я так сначала говорил себе… А когда попробовал привязать кисть к культе и ничего не вышло, тогда я…
– Когда победим, – сказал Ситонг, – мы заставим американцев построить для тебя специальный протез.
Кхам Бут опустил голову, спрятав лицо в коленях.
Ситонг обнял его за плечи, и лицо его мелко затряслось.
– Ну что ты, что ты? – ласково, совсем иным голосом – такого голоса Ситонга ни разу не слышал Степанов – заговорил он. – Ну не надо, брат мой, ну не надо же, любимый брат мой… Разве можно так жалеть себя?
Степанов вышел из пещеры. Кемлонг стояла возле дерева и рисовала пальцем на коре замысловатый узор.
– Пойди к нему, – сказал Степанов.
Она отрицательно покачала головой.
– Почему?
– Я не люблю его.
– Ты знала про эти рисунки?
– Нет.
– Пожалей его.
– Разве можно жалеть мужчину? Он тогда погибнет.
– До свиданья, Кемлонг. Мы сейчас уезжаем.
– Я знаю.
– Ты очень хорошая девушка, Кемлонг.
– Я знаю, – пожала она плечами, по-прежнему рисуя пальцем замысловатый узор на коре дерева.
– Мне жаль уезжать.
– Дайте мне вашу руку, – попросила она.
Кемлонг обвязала его запястье красной шелковой ниточкой и сказала:
– Это я вам дала свою душу на дорогу…
03.40
Файн сидел возле включенного диктофона и неторопливо курил.
– Неужели в мир пришла ночь? – заговорил он, поставив нужную тональность записи. – Неужели двадцатый век – последний век человечества? Этого человечества?
Файн отмотал запись, прослушал свой голос и досадливо затушил окурок в пепельнице, сделанной из половинки шариковой бомбы. Стер написанное и начал диктовать снова:
– Люди, считающие, что они служат долгу, попросту выполняют то, что время запрограммировало в их генах. Мы все запрограммированы, сейчас уже с этим не спорят. Когда-то древние знали про это. Недаром осталась мудрость: «Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет в луже». Раньше время было медлительным. Его называли рекой. Теперь оно стремительно. Отчего оно так убыстрилось? Наверное, оттого, что оно не хочет открыть нам свою тайну. Главную тайну. Поэтому оно заставляет нас прожигать и проживать время жизни. Оно подгоняет нас, выдвигая иллюзорные мечты, мы гонимся за ними, пробегая сквозь время. Мы не успеваем осмыслить происходящее: время готовит нам одну феерию за другой. Память мира стала, как никогда, короткой: так бывает в концерте, где отличные номера следуют один за другим. Этот наш бег за мечтой порождает усталость. И мы передаем эту усталость потомкам. Мы программируем усталость в будущем через гены наших детей и внуков. Видимо, мы слишком близко подошли к тайне времени. Мы начали выходить из-под контроля. И время тогда, поняв, что впрямую нас не победишь и прошлое – спокойное прошлое – не вернешь людям, а следовательно, и ему самому – позволило простой микроскоп сделать электронным и помогло тем, кто слепо тыкался носом вокруг проблемы наследственности, сфотографировать клетку ДНК. Время решило столкнуть количество открытого людьми с их разумом, который не в силах это открыто осмыслить. И тогда время помогло Виннеру создать кибернетического робота. Это был самый коварный ход времени. Человек, преклоняющийся перед творением рук своих, перед всезапоминающим и всевычисляющим роботом, обречен на умильное рабство. Робот будет служить не человеку, как он надменно думает, но – времени. Спасти от гибели можно только верующих рабов. Богов свергли. Робот – бог будущего. Боги – слуги времени. Время нас снова обыграло. Человечество, погрязшее в маленьких личных, групповых и государственных заботах, уже проиграло, не заметив этого катастрофического проигрыша. А порой даже аплодируя поражениям – когда выдавали Нобелевские премии мудрецам от математики и электроники. Эти мудрецы были невольными провокаторами времени. Не зря инквизиция жгла на кострах тех, кто дерзал думать шире пределов, утвержденных религией: видимо, папские нунции, лишенные радостей плотской, простой жизни, мечтали, чтобы этим простым счастьем наслаждалась их паства. Паства дерзко отринула этот путь устами Галилея, который сказал, что шарик все-таки крутится. Будь он проклят, этот вздорный старик, этот вздорный старик… Только равенство мысли могло бы уравнять людей в их правах и обязанностях. Но разве люди согласятся уравнять себя в мысли? Личный агент времени в каждом из нас – честолюбие и алчность – не позволит сделать этого. Маленькие люди заняты своими маленькими радостями, крохотными горестями и глупенькими страстями. Время, наблюдая нас, видимо, потешается: «На что замахиваетесь, мыши?»
Файн выключил магнитофон и, откинувшись на спинку старинного, с истертыми валиками кресла, закурил и почувствовал, как у него устало расслабились мышцы живота.
Он потянулся и закинул тонкие руки за голову. Возле окна, в дальнем углу номера, запел сверчок. Файн долго слушал, как поет сверчок, а потом – неожиданно для самого себя – заплакал. Он включил диктофон и поднял микрофон, чтобы песня сверчка явственнее записалась на пленку. Он долго сидел с вытянутой рукой и, улыбаясь, счастливо плакал, слушая, как пел сверчок. А когда он замолчал, Файн сказал в микрофон:
– У времени добрая песня…
04.07
– Поставь будильник на пять часов, – сонно пробормотал Билл. – Я хоть часок вздремну. Мы в пять должны вылетать…
– Я разбужу. Спи, – сказала Сара. – Я разбужу тебя в пять.
– Мы разбомбим эту машину с чарли и быстренько вернемся.
– Спи. Спи, – повторила Сара. – Спи же ты…
– У меня очень свирепый командир. Мне нельзя проспать.
– Спи. Я тебя разбужу.
Саре показалось, что парень уснул. Она осторожно отодвинулась от него. Ей хотелось бежать отсюда, но парень обнял ее, прижал к себе и спросил:
– Куда ты?
– Никуда. Просто мне жарко.
– Нет. Лежи рядом. Я не буду спать, я только подремлю пятнадцать минут, – он поцеловал ее в шею. – И сразу проснусь. И у нас еще останется полчаса на любовь. Поцелуй меня.
Сара прикоснулась губами к его щеке.
– Нет, поцелуй меня так, как раньше.
– Я устала.
– Ты думаешь, я не устал? Я тоже очень устал.
– Поспи. Поспи немного.
– Хорошо. Совсем немного. Разбуди меня через десять минут. Ладно?
– Хорошо.
И Билл уснул: он всегда засыпал сразу, как ребенок.
04.29
– Я не мешаю тебе своими коленками? – спросил Ситонг.
– Нет, что ты, совсем не мешаешь.
– Я взял еще две канистры на обратный путь и продовольствия, поэтому стало так тесно.
– Ты на границе не отдохнешь? Там хорошее убежище.
– Нет. Надо возвращаться на фронт, – ответил Ситонг. – Там дел много. Ну-ка, поддай скорости, – попросил он шофера. – Надо поскорей проскочить равнину.
– Я и так гоню, – сказал шофер. – Равнина очень красивая, – обернулся он к Степанову. – Вы ее днем не видели?
– Чего красивого может быть в равнинах? – удивился Ситонг. – Красиво бывает только в горах.
– Почему? – спросил Степанов.
– Потому что в горах неизвестно, что будет дальше. Поднимешься на вершину – и видишь: водопад. Поднимешься на вторую – а там ульи с медом; опустишься в ущелье – а там олень стоит. А равнина – что? Как жизнь: заранее знаешь, что в конце помрешь…
– В равнине можно построить красивый город, – сказал шофер. – Кхам Бут, когда был с рукой, нарисовал такой город: он весь стеклянный. Когда мы победим, в тот город станут приезжать люди со всего мира – отдыхать, и охотиться, и ловить рыб в горных потоках, стремительных как любовь, – закончил он обязательной саванакетской цветистостью.
– Жаль только, – задумчиво улыбаясь чему-то своему, далекому, сказал Ситонг, – что у нас нет снега.
– А у нас жалеют, что мало лета, – сказал Степанов.
– Всегда жалеют о том, чего нет, – сказал Ситонг. – Вообще-то снег – это очень красиво.
– В нем много высокой эстетики, – сказал Степанов, – особенно когда его вспоминаешь, а не идешь по нему босиком…
– А что такое эстетика? – спросил шофер.
– Эстетика? – переспросил Степанов и пожал плечами. – Черт его знает… Наверное, это – когда уважают человека. В жаре нет эстетики, например.
– Жара – это ничто, – засмеялся шофер. – Как же может ничто уважать человека?
– Жара – это нечто, – сказал Ситонг. – Ведь ты реагируешь на нее?
– Я на нее потею, – ответил шофер, – а не реагирую.
Ситонг спросил Степанова:
– Ты любишь снег?
– Очень.
– Я тоже очень люблю снег, – сказал Ситонг. – Я очень любил подниматься на фуникулере в Париже, когда шел снег.
Степанов вспомнил фуникулер в Татрах. Он тогда забрался на самую вершину – думал только посмотреть на Татранскую ломницу, но начался буран, и водитель фуникулера вошел в маленький ресторанчик, отряхнул с фуражки снег и сказал:
– Будем отдыхать.
В ресторанчике было четыре человека: краснолицый седой австриец в спортивной ношеной куртке, женщина-горнолыжница, сидевшая возле самого окна, парень, игравший на губной гармонике, и Степанов. Водитель фуникулера ушел на кухню, и оттуда был слышен его рокочущий голос, – наверное, он пил пиво и поэтому так довольно рокотал.
Австриец спросил Степанова:
– У вас нет огня?
– Есть. Пожалуйста. – Степанов протянул ему зажигалку, и австриец прикурил треснувшую, намокшую сигарету.
– Спасибо, – сказал австриец. – Хороший снег, а?
– Снег дрянной, – сказал парень, перестав играть на губной гармошке. – Если он не прекратится, надо будет здесь ночевать.