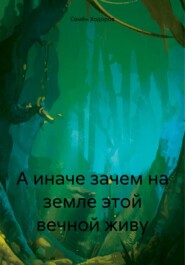
Полная версия:
А иначе зачем на земле этой вечной живу
Главным, почти болезненным и безумным, увлечением Олега была не математика, не физика и не химия. Это был футбол, не настольный, конечно, и не дворовой, а настоящий, профессиональный, травмирующий комбинационный и захватывающий. Несколько лет он занимался в детской спортивной школе (ДСШ), а затем стал играть в юношеском и дублирующем составах футбольной команды «Карпаты», которая некоторое время играла в высшей лиге и даже выиграла кубок СССР. Алик и меня обучал непростым футбольным трюкам приёмам и отбора мяча, технике финтов, подкатов и других игровых приёмов. Благодаря этому, я не плохо выглядел в беспорядочных дворовых матчах. Мне трудно было оценить футбольное мастерство своего друга на международном уровне, но тренером он был первоклассным. Возможно это и послужило убедительным аргументом того, что после окончания школы он стал студентом Львовского института физкультуры, который закончил с отличием.
Отец Алика работал простым мясником на Краковском рынке. Как я сегодня понимаю, эта не очень престижная должность позволяла ему кормить дружную семью, состоящую из трёх мальчиков, которых произвела в этот безумный мир его жена, очень красивая тётя Валя. Алик являл собой центр этого мужского «триумвирата», который окаймляли старший брат Саша и младший Юра. С Александром мы впоследствии вместе учились в политехническом институте. До сих пор не понимаю, как лицо полуеврейской национальности стало первым заместителем секретаря комитета комсомола по идеологической работе учебного заведения, в котором обучались около 30 000 студентов.
Трудно сказать, откуда у тёти Вали брались силы окружать заботой четырёх мужчин, совмещая это с полным днём работы в торговой сети. В этом аспекте запомнилось, как она стала работать на улице Горького в баре, над которым висела притягивающая вывеска «Коктейли». До этого момента львовяне привыкли к слову «бар» прибавлять эпитет «пивной», а к существительному «коктейль» прилагательное «молочный». Расторопная и динамичная матушка Олега значительно расширила лексику горожан, которые, правда не с первой попытки, осознали, что бар – это предприятие общественного «не питания», оборудованное светящейся колоритной стойкой и реализующее алкогольные напитки и коктейли. Последние представляли собой смесь или, образно говоря, мозаику спиртного «месива». В красочном буклете фасонились, незнакомые прежде, наименования: мохито, кровавая Мэри, Маргарита, джин-тоник и другие. Уже через короткое время бар получил название «У тёти Вали» и стал популярным местом досуга горожан, желающих поправить свой жизненный тонус в сторону существенной максимизации. Когда мы с Олегом иногда желали присоединяться к последним, его мама наливала нам в голубой конусовидный фужер белую прозрачную жидкость. Этот коктейль не значился в барном меню и носил нелегальное название «Белый медведь». Рецепт приготовления был феерически прост: в бокал налить 50 мл холодной водки, добавить 100 мл холодного шампанского, перемешать и подать на стол. Метаморфоза перехода от трезвого и осмысленного состояния к хмельному и спонтанно-сумбурному длился всего четверть часа. Как правило, именно это и являлось целью излияния, после которого иногда даже мерещился белый полярный умка, дрейфующий на синеватой льдине.
В большинстве случаев, после этой шампанско-водочной инаугурации, мы с Аликом направляли свои стопы, обутые в модные вьетнамские кеды «три мяча», в сторону домов, где жили наши подруги. Что касается женского пола, то его, наверное, мой друг любил не меньше, чем футбольный мяч. Тогда слово «мачо» ещё не было в повседневном обиходе. Однако, если учесть, что в переводе с испанского оно предполагает агрессивного, брутального и прямолинейного мужчину, обладающего ярко выраженной сексуальной привлекательностью, то его сходство с Аликом ни у кого возражений не вызывало. В свободное от учёбы и футбола время, он не только казался, а и в самом деле был неотразимым соблазнителем и потрясающим красавчиком. Количество девушек, с которыми он, нет, нет, не дружил, а был в отношениях, близких к интимным, исчислялось двухзначными числами, и он подвергал их регулярной ротации гораздо чаще, чем модники меняют перчатки. Я почти не сомневался в правдивости слов Олега, когда он, в знак большого секрета, прикладывал свой палец к моим губам, и рассказывал, как ввёл в искушение нашу молодую учительницу физкультуры. Крайнее замешательство и какой-то стихийный протест у меня вызывали тирады Алика, когда он, как бы выискивая у меня понимание или сочувствие, неистово подчёркивал, что в каждой повстречавшейся красивой девушке он видит только мохнатую и неприкрытую промежность.
Но в какой-то момент вдруг всё изменилось. Мы с Аликом жили на параллельных улицах, причём между фасадом моего дома и тылом здания, где обитал мой друг, проходил обширный травянистый пустырь, на котором мы играли в футбол, догонялки, казака-разбойника, катались на велосипедах, санках и коньках. Когда мы учились уже в старших классах, его решили застроить двумя пятиэтажными домами, что в то время казались нам манхэттенскими небоскрёбами. Здания оказались, действительно, элитными: квартиры там получили ответственные партийные и городские чиновники, а также высокопоставленные офицеры штаба округа. Надо же было тому случиться, что Олегу пришлась по душе, именно по душе, а не по другим органам, голубоглазая длинноногая блондинка Алла. Изящная и эффектная дочка главного редактора областной газеты училась в элитной английской школе и готовилась по стопам отца поступать на факультет журналистики Львовского университета. По, описанным выше, причинам у Олега не было даже малейших предпосылок не понравиться Алле. Однако белокурая барышня явно относилась к категории тех неприступных, с первого раза, девушек, про которых в народе говорили «я не такая, я жду трамвая». Вполне вероятно, это расхожее выражение корнями исходило из того, что когда-то какая-то молодая женщина стояла на дорожной обочине в ожидании городской конки, а её приняли за работницу древнейшей профессии. Но к Аллочке это не имело никакого отношения: во-первых, несмотря на то, что трамвай № 6 проходил прямо под окнами её дома, остановки там не было, а во-вторых, расстояние между круглой отличницей одной из самых престижных школ города до уличной путаны измерялась в этом случае не иначе, как астрономическими парсеками, которыми определялись межгалактические удалённости. Тем не менее, близость Алика и Аллы возрастала помимо их воли, опираясь исключительно на утончённую чувственность, если и не с космической скоростью, то уж точно с неосмотрительной поспешностью. Если для Олега поцеловать девушку через месяц, как это было в случае с Аллой, называлось бесславным провалом, то для неё свершение этой невероятности было сопоставимо с быстротой молнии.
Как ни странно, Алик совсем не огорчался и даже радовался неторопливости развития его отношений с Аллой, признавшись мне, что кажется познал чувство настоящей любви. В отличие от него, будущей сотруднице средств массовой информации (СМИ), это вовсе не чудилось: она просто была, очертя голову, увлечена и влюблена безрассудно и сумасбродно. При всём своём эмоциональном упоении Аллочкой, Олег не забывал о моём мальчишеском уединении. Он надоумил свою новую возлюбленную не просто познакомить, а свести меня со своей соседкой, дочкой генерала, миловидной черноволосой девушкой Танечкой Поляковой, которая училась со мной в одной школе, но в параллельном классе. Нет особой нужды описывать здесь наши межличностные контакты, достаточно сказать о некотором случае, который обсуждался даже на педагогическом совете школы. Так сложилось, что одними и теми же картографическими атласами пользовались все десятые классы нашей школы. Их попеременно, в соответствии с расписанием, доставляли на уроки географии. Какой-то школьный инкогнито, «мистер икс», удосужился написать на титульной странице атласов «Сеня Х. + Таня П. = Любовь. Как бы это цинично и вульгарно не звучало, наверное, всем школьным тинэйджерам совсем не трудно было догадаться, что заглавные буквы, стоящие после имён, обозначали не только мою и Танину фамилии.
Чуть выше я писал, что после коктейльного «Белого медведя», мы с Аликом направлялись к дому, где жили наши подруги. Всё было не так просто: мы с моим другом не были приглашаемыми, точнее говоря, допускаемыми, в квартиры наших подружек. Причиной, вероятно, была несоответствие или разница в статусе наших и их родителей. Поэтому, если свидания не были заранее запланированы, то происходило следующая своеобразная инверсия. До сих пор иногда по ночам снится лунный отсвет восходящей луны, лёгкий морозец, бесшумно ниспадающие снежинки на воротники зимних пальто двух парней. Одного звали Олег, другого Семён. Они по очереди насвистывали потрясающие мелодии 60-х годов, которые пели Эдита Пьеха «На тебе сошёлся клином белый свет» и Иосиф Кобзон «А у нас во дворе есть девчонка одна». Первая предназначалась Аллочке, а вторая Татьяне. Как правило, после этого сигнального посвистывания наши девочки выбегали, если дело было зимой, из отопленных квартир на морозный воздух, где потом наши губы синели отнюдь не от зимнего холода, а от опьяняющих и неистовых поцелуев.
Правильно говорят: это было недавно, это было давно. Да и впрямь, немало воды утекло с тех незабвенных пор в Средиземном море, голубая панорама которого открывается с балкона моей израильской квартиры. Как-то так сложилось, что наши с Аликом последующие реалии пролегли по разным житейским рельсам. Виной тому, наверное, обыкновенная текучка разных незавершённых дел, бытовой уклад изнурительной рутины да и просто обитание в разных профессиональных сферах. Наверное, поэтому для меня было не просто приятной, а ошеломляющей неожиданностью, когда всего три года назад в социальной сети «Одноклассники» неожиданно проявился Алик. По правде говоря, обнаружился не мой друг Олег Фикс, а незнакомая женщина с именем Валентина, оказавшейся его женой. В своём сообщении она спрашивала, являлся ли я школьным товарищем Алика, который сейчас находится в Израиле. Я тут же, вместе с утвердительным ответом, выслал номер своего смартфона. Не успел я оторвать взгляд от экрана компьютера, как раздался телефонный звонок. Это был Алик Фикс. Говорили мы с ним без перерыва не менее двух часов, пока мой мобильник не разрядился от нашего эмоционального перегрева. Оказалось, что Алик уже два десятка лет проживает в Израиле вместе с женой и сыном в городе Кармиэль на севере страны. Там же нашёл пристанище бывший комсомольский лидер института, где я учился, его брат Саша. Олег некоторое время работал тренером местной футбольной команды, а потом, закончив непростые курсы, стал, известным в городе, массажистом.
К моему искреннему и горькому сожалению мы так и не встретились. Свиданию препятствовала даже не столько, бушующая в стране, пандемия короновируса, сколько крайне скверное самочувствие Алика. Мне трудно было представить, что мой, атлетического телосложения, всегда просто пылающий добрым здравием и жизнерадостной бодростью, друг перенёс несколько тяжёлых операций, и в настоящее время боролся с онкологией.
Прошёл всего год, как я получил «вацаповское» сообщение от жены Алика, что мой друг закончил своё земное существование, отойдя в лучший мир. В этом ракурсе в памяти всплывает есенинская философская лирика «не жалею, не зову и плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь дым». Ничего не пройдёт, я и жалею, и зову, и плачу по безвременно ушедшему другу Олегу.
Да будет пухом ему земля!
Глава 6. Александр Ярмоленко
1952 года рождения, украинец, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
В конце 70-х годов прошлого столетия, в разгар работы над кандидатской диссертацией, я на несколько дней выехал из Львова в дружественную Белоруссию на конференцию с докладом по теме одного из своих исследований. Она проходила в малоизвестном, для научных сотрудников, месте под названием Горки (небольшой городок в Горецком районе Могилёвской области). Именно там размещалась Белорусская сельскохозяйственная академия, кафедра геодезии и землеустройства которой проводила научную конференцию по профилю моих разработок. Двумя поездами с пересадкой добрался до Орши, знакового места партизанского движения Белоруссии. Оттуда ещё полтора часа на трясущемся автобусе, и я у цели, одной из старейших академий страны. Поселили меня в неказистой комнатёнке студенческого общежития, без комфорта, но зато без соседей. Поскольку особые достопримечательности в городке обнаружены не были, то после девяти вечера я спокойно отправился за ночными сновидениями.
Но не тут-то было. Буквально через полчаса раздался сначала осторожно приглушённый, а потом неистово оглушительный стук в дверь. Казалось, что по ней били не только руками и ногами, а и каким-то, совсем не игрушечным, молотком. При этом незнакомый мужской бас грозно выкрикивал:
– Немедленно видкрывай, а то сейчас выбью эту чёртову дверь.
При трепетном всплеске страха, охватившего меня, я всё-таки не мог не заметить, что слово «открой» было сказано на украинском языке. Не знаю, отворил бы ли я эти злополучные «прикомнатные врата», если бы вдруг не услышал мелодичный женский голос:
– Извините, что так поздно, это вас беспокоят с кафедры геодезии.
Напрочь позабыв, что нахожусь в неглиже, без галстука, в одних чёрных семейных трусах, я отворил дверь. В тот же момент я оказался в крепких объятиях, нехило сложенного, широкоплечего мужчины, который, едва ли не придушив меня в них, воскликнул:
– Привет, Сенька! Здравствуй дорогой. Как ты здесь оказался. Сколько лет, сколько зим?
Зим оказалось столько, сколько и лет. Ровно пять их прошло, как я не видел своего сокурсника Сашу Ярмоленко, который тут же выставил на стол бутылку водки «Столичная» с буханкой чёрного хлеба и здоровенным шматом добротного белорусского сала. Захлёбываясь от потока матерно-приветливых слов, он тут же познакомил меня с улыбчивой блондинкой, которая оказалось его женой. При этом Саша сообщил, что только сегодня ознакомился со списком докладчиков конференции, обнаружив среди них мою фамилию.
Мы с Сашей учились на одном и том же курсе, но на разных специальностях: я на астрономогеодезии, а он на инженерной геодезии. Несмотря на это, на протяжении всех лет учёбы нас связывали скорее просто приятельские, чем настоящие дружественные отношения. Нет, мы с ним не съели пуд соли, у нас не было каких-либо устойчивых личных связей, да и водку, которую при встрече в Горках он поставил на стол, не помню, чтобы пили вместе в студенческую бытность. Тем не менее, между нами всегда присутствовали вполне зримые чувства взаимного уважения и симпатии друг к другу, общие интересы и даже необъяснимые ощущения обоюдного понимания и доверия. Как ни странно, всё это в гораздо большей степени проявилось после этой нашей вышеописанной встречи в Белоруссии.
Однако обо всём по порядку. Так сложилось, что Саша Ярмоленко после защиты диплома, который у него был красного цвета (документ об окончании высшего учебного заведения с отличием), получил распределение на работу в Белорусскую сельскохозяйственную академии в должности ассистента кафедры геодезии. Заведующим этой кафедрой был в то время доктор технических наук, профессор Алексей Андреевич Соломонов, который чуть позже станет руководителем кандидатской диссертации Саши. Другими словами, уже в 1973 году, сразу после окончания института, он, параллельно с преподаванием, стал аспирантом, занимаясь научными исследованиями. Я же вступил на научно-преподавательскую стезю на шесть лет позже своего однокашника, проработав до этого инженером на производстве. Заведующий кафедрой, на которой я начал преподавать во Львове в 1978 году, поручил мне встретить на вокзале профессора из Белоруссии, который должен был прочитать цикл обзорных лекций для студентов института, в котором я работал. Фишка состояла в том, что им оказался тот же самый профессор Соломонов. А ещё карта легла так, что Алексей Андреевич пригласил меня в свою аспирантуру, которую я позже успешно закончил. С тех пор мы с Сашей оказались диссертантами одного и того же руководителя с той лишь разницей, что он уже заканчивал свою работу на соискание учёной степени, а я только начинал. При этом наш профессор уже работал в Белорусском технологическом институте в Минске, где собственно и проходила моё аспирантское творчество. Разница в его начале, равно, как и момент защиты диссертации, составлял у меня с Сашей пять лет. Однако именно с момента моего поступления в аспирантуру наше взаимодействие с Сашей было более более мощным, более насыщенным, более, можно сказать, монолитным, чем в годы совместной учёбы в институте. Если там мы, в основном, сотрудничали в рамках СНО (студенческое научное общество), то в Белоруссии мы тесно взаимодействовали в области науки, которую уже можно было назвать настоящей. Темы наших диссертационных работ относились к одной и той же сфере – математической обработке инженерных геодезических сетей, и поэтому нам было, что обсуждать, что обмозговывать, в чём разбираться и о чём дискутировать. При этом, во всём отмеченным «первой скрипкой» был Саша. Именно он являлся запевалой в нашем дуэте не только потому, что уже накопил достаточный опыт в работе с научной литературой, в написании статей и выступлениях на научных семинарах и конференциях. Просто у него был совсем нестандартный и, наверное, уникальный склад аналитического ума, который зачастую позволял ему наталкивать меня на оригинальные решения в моих научных исследованиях.
Что говорить, с одной стороны, Саша Ярмоленко был простым бесхитростным и искренним, верующим в добрые идеалы, человеком. В то же время где-то внутри него не теплились, а просто горели творческие инициативы, которых наверное хватило бы на целую научную лабораторию. Биография Саши Ярмоленко сродни жизнеописанию Михаила Ломоносова. Оба были крестьянского происхождения с той лишь разницей, что Михаил Васильевич родился в деревне Мишанинское Архангелогородской губернии в 1711 году и в 1745 был назначен профессором химии, а Александр Степанович – в небольшом селе Залетичевка Летичевского района Хмельницкой области в 1952 году, а звания профессора удостоился в 1998 году. Такая вот любопытная аналогия. Да и в самом деле, Саша родился в глухой тупиковой украинской деревеньке, скорее определяемой как хутор, в котором были частые перебои с электричеством, и школьникам приходилось делать уроки при тусклых отблесках керосиновой лампы. Именно там заканчивался просёлок, соединяющий её с другими деревнями и районным центром. Зная это, в голове просто не помещалось, как при таких условиях простой сельский парубок превратился в студента, ленинского стипендиата, фотография которого висела среди десяти лучших их тридцати тысяч студентов политехнического института. Просто диву даёшься, как родители Саши, простые оратаи, сумели воспитать в нём стремление к знаниям и любовь не только к физическому, а и к творческому труду. Именно они воспитали в нём незаурядную личность, которая всегда вдохновенно вносила «разумное, доброе и вечное» своим студентам и самозабвенно и бескорыстно оказывала помощь тем, кто в ней нуждался.
В 1981 году на Учёном Совете Ленинградского горного института имени Плеханова Саша Ярмоленко успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. В этом же году он становится старшим преподавателем кафедры геодезии БСХА (Белорусская сельскохозяйственная геодезия), а в 1987 году избирается доцентом. Через семь лет Саше присуждается учёная степень доктора технических наук. С этого момента он становится заведующим кафедры геодезии и фотограмметрии БСХА. Через четыре года Саша уже в звании профессора возглавил кафедру управления земельными ресурсами в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого.
Кандидат, доктор наук, доцент, профессор – все эти учёные степени и звания для Саши Ярмоленко были не столько целью достижения почётных и высокопочитаемых регалий и не столько неукротимым стремлением к получению презентабельных должностных окладов, сколько легитимным средством научного самоутверждения и узаконенным правом передавать свои фундаментальные знания грядущим поколениям студентов. В этом, собственно, и был весь смысл жизни талантливого учёного, мудрого наставника будущих бакалавров, магистров и докторов и моего близкого товарища и коллеги.
Так случилось, что на шестьдесят девятом году жизни Саша Ярмоленко скоропостижно скончался и внезапно покинул Землю, устройству которой посвящены сотни его научных статей и монографий.
Да будет пухом ему земля!
Глава 7. Владимир Скрыль
1947 года рождения, русский (по отцу) и татарин (по матери), кандидат технических наук, доцент
В один их дней семестровых студенческих будней в аудиторию, где профессор Буткевич читал нам лекции по космической геодезии, вместо него стремительным метеором ворвался чернявый молодой человек. Взъерошенные длинные волосы и неестественный пурпур на лице говорили об его чрезмерном волнении. Всё стало объяснимо, когда он срывающимся голосом объяснил, что заменяет заболевшего профессора и прочтёт нам лекцию, тему которой «Дифференциальные уравнения возмущённого движения спутника в оскулирующих элементах геоцентрической орбиты» я помню и сегодня. В памяти зафиксировалась не столько сложная и запутанная теория орбитального движения искусственных спутников Земли, не столько невероятное обилие хитроумных формул, сколько бледное встревоженное и обеспокоенное лицо ассистента кафедры астрономии и космической геодезии Владимира Анатольевича Скрыля. Он окончил факультет, на котором я учился, на два года раньше меня, и был допущен к проведению практических занятий по курсу геодезической астрономии. Как выяснилось позже, лекций Володя никогда не читал. Просто совсем неожиданно, всего за один день до урочного часа, профессор поручил заменить его. Следует отметить, что будущий доцент старался, наверное, на самом крутом пике своих, в общем-то, ограниченных тогда, возможностей. Полагаю, что самым счастливым моментом его лекторского дебюта был долгожданный звонок, возвестивший об окончании занятия. Собственно, именно этот звук нахально прервал моё первое знакомство с Володей.
Оно продолжилось на кафедре математической обработке геодезических измерений. Под руководством её заведующего, профессора Мещерякова, Володя начал писать свою диссертацию, а я приступил к работе над дипломным проектом. Нельзя сказать, что мы крепко подружились, но каким-то образом сблизились в соответствии, как мне кажется, с законом единства и борьбы противоположностей. Единством, вероятно, явилась кафедра, к которой мы были привязаны своими научными работами и её руководитель, профессор, бескорыстный, чуткий и отзывчивый человек с огромным творческим и академическим потенциалом. Разительной и кардинальной противоположностью являлось полное несовпадение наших характеров. В отличие от меня, Володя обладал страстным и вспыльчивым темпераментом, необузданным, в некотором роде, бесшабашным нравом. Иногда он совершал чудодейственные выкрутасы, несовместимые пониманию с точки зрения формальной логики.
В качестве ненавязчивого примера приведу его отношения с уважаемыми профессорами из Москвы. Ещё будучи аспирантом, непонятно какими неисповедимыми путями, он завёл с ними доверительные связи. Здесь следует объяснить, что в то время во Львове в политехническом институте функционировал специализированный совет по приёму и защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидатов и докторов технических наук по геодезическим дисциплинам. Непростая процедура его проведения включала также оппонирование рассматриваемых диссертаций. Их соискатели старались в качестве оппонентов заполучить наиболее авторитетных учёных в своей области. Понятно, что наиболее серьёзные, весомые и компетентные из них работали в столице. Как правило, московские профессора особо не возражали участвовать в непредвзятой экспертизе, представленных на их суд диссертационных работ. Во-первых, этот процесс вписывался в перечень их должностных обязанностей, а диссертационных учёных советов по геодезической специальности в стране было всего три: в Москве, в Новосибирске и во Львове. Во-вторых, столичная элита востоку предпочитала запад. Это в том смысле, что Львов, будучи в прошлом австро-венгерско-польским, по праву носил статус западноевропейского города, в котором было, что посмотреть и где развлечься в вечернее время. Во-вторых, во Львове умели принимать столичных гостей. Устраивали чарующие экскурсии по средневековому городу, исторический центр которого напоминал огромный архитектурный музей. Гостей возили в заповедные уголки лесистых Карпат, устраивали на несколько дней в, практически недоступные тогда широкой публике, санатории Трускавца и Моршина. В общем, четверть часа выступления оборачивалось для московского профессора совсем неплохим релаксом, включая, разумеется, ещё и присутствие на банкете в достойном ресторане в честь новорождённого кандидата или доктора наук. Всё вышеописанное является затянувшейся преамбулой к чудесам, которые вытворял Володя Скрыль. Вот одно из них. Оно тесно соприкасается с расхожим, но не очень приличным выражением: «мужчина слабый на передок». Речь идёт о представителях совсем неслабого пола, у которых в наличие имеется постоянная сексуальная озабоченность. Это явление не обошло стороной некоторых представителей академического мира. Схема была экстремально проста. Избранница Володи, симпатично-привлекательная женщина, приглашалась на банкет в честь диссертанта, который заканчивался для неё запланированной ночёвкой в гостиничном номере, который был снят для приезжего профессора. Вряд ли стоит забывать, что всё обозначенное происходило в эпоху развитого социализма, когда не было никакой проституции, не было массажных кабинетов и девушек по вызову. До сего дня для меня остаётся неразглашённой и постыдной тайной, откуда Владимиру удавалось приводить этих молодых женщин. На мой вопрос об этом, он как-то несуразно улыбался и говорил, что это его бывшие одноклассницы. Я даже в кошмарном сне не мог себе представить, как можно подойти к хорошо знакомой женщине и сказать:



