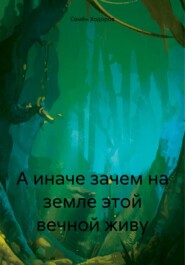
Полная версия:
А иначе зачем на земле этой вечной живу
– Толик, прошу тебя только об одном, береги себя!
При этом я, прежде всего, имел в виду, хранить себя от тлетворного влияния алкоголя.
Когда через двадцать лет я приехал в родной город в качестве докладчика на международный симпозиум, мне не удалось найти следы обитания моего друга. В ЦУМ(е) всё-таки сумел отыскать немолодую продавщицу, которая, приставив руки к крестику, висевшему на груди, сказала, что Анатолия Михайловича уже нет в живых, добавив при этом, что всему виной стала проклятая водка.
Да будет пухом ему земля!
Глава 2. Валерий Краснобаев
1948 года рождения, русский, регулировщик радиоаппаратуры на военном заводе
Небольшой очерк о моём друге Валере начну с печального конца. Когда я через двадцать лет на неделю приехал из Израиля в свой родной город, к большому сожалению, не застал своего бывшего однокашника в живых. Хотел сделать сюрприз, не предупреждая заранее о своём приезде. Вместо эффекта своего неожиданного появления, получил аффект в виде ошеломляющего сообщения соседки Валерия. В тот день долго звонил в, ещё с детства знакомую, дверь его квартиры, пока из смежной не вышла дородная женщина, которая рассказала о том, что прошло уже несколько лет, как Валерия не стало. Из её краткого повествования следовало, что умер он, находясь в командировке на Дальнем Востоке, а причиной его внезапной смерти явилось алкогольная интоксикация. Заметив мой печально-удивлённый взгляд, она скороговоркой выложила, что на Украине все мужики злоупотребляют «этим делом», и большая часть из них именно от этого уходят в иной мир. Вот так и получилось, что в мой первый, после долгого отсутствия, приезд во Львов я потерял двух, дорогих мне, школьных друзей, Анатолия (см. предыдущий рассказ) и Валерия.
В юношеские годы мои близкие дружеские отношения с ним многим казались странными. Да и в самом деле, как-то нелепо выглядела дружба низкорослого (1.65 м) и худощавого отличника учёбы, каковым являлся я, с высоченным (1.88 м) и широкоплечим «амбалом», вечным «троечником», Валерием. Всё началось с неординарного события, которое произошло в кинотеатре, где вся школа смотрела знаковый фильм «Русское чудо». В те 60-годы прошлого столетия киноаппаратура не была такой совершенной, как сегодня, и при демонстрации фильма часто обрывалась плёнка. Так случилось и во время этого просмотра. Когда в кинозале по указанной причине неожиданно зажегся свет, взгляду школьников представилась пара их разнополых целующихся одноклассников. Трудно описать, что творилось в зале: громовой смех, бурные аплодисменты, дикое улюлюканье и залихватский свист. В то время ромеоджульетовские поцелуи в людном месте считались полнейшим нонсенсом. Как следствие, этот атрибут юношеской непосредственности был вынесен на педагогический совет школы. Понятно, что к моральной ответственности были привлечены и родители целовавшихся юноши и девушки. Классные руководители проводили собрания, на которых собирали отдельно мальчиков и девочек, убеждая их в полноценности классических высказываний Н. Чернышевского «умри, но не давай поцелуя без любви», Пушкина «береги платье снову, а честь смолоду» и М. Зощенко «если женщина добродетельна, то об этом знает она одна, если порочна – кто не знает».
Возможно, не нужно было бы так подробно останавливаться на этом, взбудоражившим всю школу, эпизоде, если бы он не привёл в возбуждённое состояние моего будущего друга, семиклассника Валерия Краснобаева. Под гипнотическим влиянием случившегося он не придумал ничего лучшего, как на, покрашенной в белый цвет, стене коридора возле входа в класс нарисовать женский силуэт. Причём фигура была изображена так, что в центре её нижней части красовалась, существующая на стене, чёрная розетка, А в верхней стороне придуманного фрагмента Валерий приклеил две симметричные дужки, вырезанные из чёрной изоленты. Всякому, кто взирал на этот «ню контур», становилось понятно, что перед ним красуется отнюдь не мужской профиль. Сообразила это и математичка, классная руководительница Эсфирь Иосифовна. Надо было видеть, как приземистая тщедушная учительница самым решительным образом, упираясь двумя руками в мощную спину Валерия, выталкивала его из класса, заставляя стереть, начертанную им, непристойность и угрожая при этом поставить ему, вместо тройки, заслуженную двойку по алгебре и геометрии. Возможно, так оно и было, если бы, глядя на обескураженное лицо Валерия, сам не знаю почему, я неожиданно выкрикнул, что сделаю всё, чтобы у него в табеле красовалась твёрдая тройка по математике.
С этого момента и началась наша дружба, которая прервалась в августе 1990 году. Тогда Валерий, находясь в командировке в Москве, встретил меня на Киевском вокзале, чтобы помочь перевезти всю семью и багаж в международный аэропорт Шереметьево, откуда вылетал самолёт в Израиль. А до этого были, как в той песне – «школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею», а ещё и вместе с Валерой. Уже тогда я прочитал в энциклопедии, что его, чисто русская, фамилия Краснобаев фонетически связана со словами говорун, рассказчик, шутник. На самом деле, он не был носителем этих понятий, не считая, может быть, последнего. Только сейчас я понимаю, что ценил и, в какой-то степени, даже обожествлял Валерия не только за его мощный торс, не за мужество и физическую силу, не, как заступника от уличной хулиганской шпаны и ни, как капитана заводской команды по регби. Я боготворил его за редкостную доброту и отзывчивость, за поразительное простодушие, за трогательную откровенность, за невозмутимую естественность и за потрясающую толерантность. Приведённый выше набор эпитетов не надуман и не является досужим вымыслом. Просто так получилось, что вся наша большая и дружеская компания по окончанию школы поступила в институты и университеты и стали специалистами с почитаемым высшим образованием. Только Валерий, поистине, являлся представителем рабочего класса, настоящим пролетарием, как по форме, так и по содержанию. Уже после восьмого класса он навсегда распрощался со школой, так и не получив аттестат зрелости. Стыдно вспоминать, что когда я стал кандидатом наук, Валерий не очень удачно шутил, что теперь мне, как представителю интеллигенции (слово «гнусной» он тактично опускал) не с руки хороводиться с трудящимися массами. А ведь именно таким он и был, рабочим человеком, который с 15 лет и до конца своей, не такой уж и долгой, жизни каждый день переступал заводскую проходную. Уже через два года он стал квалифицированным регулировщиком радиоаппаратуры на одном из самых престижных приборостроительных заводов Львова. Уже тогда его зарплата в два раза превышала оклад начинающего инженера. Уже тогда он понял, что нет смысла заканчивать школу, чтобы поступить в высшее учебное заведение и, в конечном итоге, получать мизерную зарплату.
Мой рассказ о Валерии был бы неполным, если не упомянуть, что он являлся круглым сиротой. Отец и мать погибли, когда ему не было и двух лет. С того времени его воспитывала бабушка Пелагея. Одному богу известно, как она, чисто русская женщина, которая родилась и большую часть жизни прожившая в глухой деревне под Вологдой, оказалась в «бандеровском», как его до сих пор называют, Львове. Однако это ни в коей мере не повлияло на то, что ей удалось вылепить из Валерия здорового, доброго и бескорыстного парня. До сих пор помню её вологодский говор, с добавлением к глаголам частицы «то», «куда пошёл- то», «чево несёшь-то». А ещё она, с нажимом на букву «о», говорила незабываемые «батюшки светы», «дьявол окаянный», «блудень» (шкодник), «валандаться» (ничего не делать), «вечеровать» (ужинать), «иди к лешему» (отстань), «опехтюй» (дурак), тряхомудия» (барахло) и «шебутной» (весёлый). Я настолько часто разговаривал с доброй и дружелюбной бабушкой Пелагеей, что, вполне вероятно вспомнил бы ещё немало слов из её старорусского лексикона так, что на Вологодчине меня могли принять за своего.
Воспоминания о Валерии неразрывно связаны с историей, которые мои друзья потом назвали «троллейбусной». Так сложилось, что одним осенним вечером я с друзьями совершал променад по вечернему городу. Помню, что надо мной кружилась жёлто-багряная листва, неторопливо ниспадающая на уличную мостовую, которую мы должны были пересечь, чтобы попасть в парк, названный в честь польского генерала Костюшко. Однако мне не было суждено добраться до извилистых каштановых аллей. При переходе на другую сторону улицы произошло то, что на русском языке именуется аббревиатурой ДТП (дорожно-транспортное происшествие). Причём это сокращение было применимо не только к словам «дорога» и «транспорт», а и к моей персоне. Так получилось, что я шёл посредине нашей неразлучной тройки друзей (Толик Титаренко, Валерий Краснобаев и я). В момент перехода с тротуара на проезжую часть я что-то оживлённо рассказывал им, выступив при этом чуть вперёд. Этого хватило, чтобы, мчавшийся в темноте с незажжёнными фарами, троллейбус врезался в меня, отбросив на несколько метров вперёд. Повезло, что транспорт, поднимаясь вверх по улице, ехал с небольшой скоростью и успел затормозить, не доехав до, распластанного на дороге, моего бренного тела считанные сантиметры. А ещё пофартило, что пока Толик искал телефон-автомат, чтобы вызвать скорую помощь, Валерий подхватил меня на руки и на небывалой скорости побежал в железнодорожную больницу, которая находилась в полукилометре от места аварии. Кончилось тем, что врач констатировал сильнейший ушиб на всей поверхности левой ноги, на которую пришёлся удар буфера троллейбуса. К тому же, в результате случившегося, я вместе с болеутоляющими уколами и таблетками получил двухнедельное освобождение от школьных занятий. Следует также отметить, что в месте описанного ДТП, буквально через полгода, построили подземный переход, который существует и по сей день и которой мои друзья окрестили моим именем. Главным, однако, во всей этой истории был поступок Валерия, который тогдашние СМИ могли бы поместить под рубрикой «так поступают советские люди». А я бы написал, что «так ведут себя настоящие друзья».
И ещё одно происшествие, связанное с Валерием и городским транспортом, которое на сленге моих друзей получило название «трамвайный сказ». На самом деле, это была никакая ни сказка, а реальность, которую даже можно назвать объективной. Как и в «троллейбусной истории», дело было вечером. Мы с Валерием провожали домой девушек, которые жили на городской окраине, называемой «Погулянкой». Это к тому, что мы сами обитали в противоположной части города, и трамвай туда в такое позднее время двигался один раз в час. Это был одновагонный, на сегодняшний день, раритетный трамвай №10. В какой-то момент мы с Валерием увидели, как он подъехал к остановке, до которой было около ста метров. Когда мы подбежали к ней, трамвай уже тронулся с места. Валерий уже на полном ходу проворно запрыгнул в него. Я же бежал за, набиравшем скорость, вагоном, стараясь зацепиться левой рукой за скобу его входной двери. При этом правая моя «длань» была откинута в сторону, что способствовало тому, что она наткнулась на бетонный электрический столб, который я не мог заметить, т.к. всё моё внимание было обращено на, уходящий в ночное городское беспределье, трамвайный вагон. Непредсказуемый удар в руку был настолько мучительно-болевым, что его прострел достиг нижних конечностей, и я, как подкошенный, рухнул на мостовую. Очнулся я в больничной палате. Возле меня в белом халате сидел всё тот же Валерий Краснобаев, который выпрыгнул из трамвая, подхватил меня на руки и выбежал не середину дороги. Таким способом он остановил первый же проезжающий автомобиль, который и доставил меня в клиническую больницу мединститута. У меня, как и в «троллейбусной» ситуации, обнаружили сильное внутреннее кровоизлияние. Однако, опять-таки, ограничился сильным ушибом и, уже в который раз, освобождением от школьных занятий. Когда я вернулся в исходное состояние, Валерий не преминул огорчённо заметить, что в третий раз он вовсе не собирается тащить меня на своих руках в лечебные заведения.
Тем не менее, в аспекте надёжности руки друга, числительное «три» всё же появилось. На этот раз обошлось, правда, без медицинского учреждения. Дело происходило на одном из горных склонов Карпат. Наша неразлучная четвёрка, в которую, кроме меня и Валерия, входили ещё Толик Титаренко (см. предыдущую главу) и Саша Ефремов (о нём будет написано в дальнейшем), поехала в горы отмечать получение аттестата зрелости. Просто нам показалось, что это празднование не должно ограничиваться школьным вальсом на выпускном вечере и встречей рассвета на Высоком Замке (живописный лесопарк, знаковое место средневекового Львова) в кругу симпатичных, принявших зрелые женские очертания, одноклассниц. Несмотря на очевидную привлекательность эротических силуэтов школьных подружек, было принято решение церемонию окончания одиннадцатого класса дополнительно провести в мужской компании в Карпатах. В этой связи было припасено немалое количество спиртного, в результате потребления которого Валерию снову пришлось проявить свои непоколебимые чувства верности и привязанности к друзьям. И снова в роли друга, в спасении которого ему в очередной раз пришлось приложить свою сильную руку, оказался я. Так случилось, что в последний день нашего пребывания в горах целый день лил проливной дождь. Мы расположились под сенью небольшого скалистого грота. Поскольку предыдущие дни были заняты горными восхождениями на невысокие карпатские вершины, водочные бутылки оставались нераскупоренными. Дождливое ненастье заставило нас вспомнить об этих припасах. Мы не без удовольствия опустошали бутылки с жёлтой этикеткой «украинская горилка с перцем» под собственный хмельной вокал, вразнобой распевая «давно друзья весёлые, простились мы со школою». Несмотря на то, что школу мы закончили лишь две недели назад, нестройными голосами продолжали петь, вспоминая «с седыми прядками над нашими тетрадками» свою первую учительницу. А дальше, уже как в стихотворении Расула Гамзатова, «тобой протянутую руку, боюсь в ладонях задержать, боюсь, испытывая муку, я слишком быстро отпускать». Совсем не зря я привёл эти поэтические строчки. Просто, уже в который раз, я снова ощутил мужественную мускулистую руку Валерия, когда сорвался с узкой, обсыпанной горными обломками, площадки, на краю небольшого грота. Именно в нём мы укрывались от зарядившего дождя, и там проходило наше выпускное празднество. В данном случае никто не был виноват в том, что когда я нетвёрдой походкой отошёл в сторону для совершения, прошу прощения, туалетных потребностей, то поскользнулся и, в ту же минуту, слетел в горное ущелье, глубиной около десяти метров. К счастью, практически сразу, мне удалось зацепиться за, ниспадающую в пропасть, толстую ветку карпатской лиственницы. А уже через какую-то минуту я ощутил руку Валерия. Он не отпускал меня до тех пор, пока не подбежали Толик и Саша и совместными усилиями не вытащили меня из скалистой пади. На этот раз обошлось без больницы, с помощью друзей отделался, не таким уж и лёгким, испугом. Но, по крайней мере, было за что выпить в продолжении нашей туристической дождливой днёвки.
Вспомнилось вдруг, что как-то во время первомайской демонстрации Валерию пришло в голову обозреть предутренний древний Львов. Идея зиждилась на том, что никто из нас никогда не видел, ещё спящего или только просыпающегося, города. Сказано – сделано. Мы с Валерием встретились в четыре часа утра и отправились с привокзального района, в котором проживали, в центральную часть города. Было ещё темно, до восхода солнца оставался ещё целый час. Ночные звёзды подмигивали, выступающим в небо, остроконечным шпилям костёлов и сферическим куполам церквей, а серебристая луна разливала свои мерцающие отблески на брусчатку уличных мостовых. Шумный город застыл в грустных бликах фонарей, в оглушительной тишине и в тягостном молчании, создавая при этом безумный мираж сказочной нереальности. Огни ночного города окунали нас в запахи расцветающей сирени, создавая при этом фантастическую атмосферу туманной и несоизмеримой бесконечности. Невиданное ранее, сюрреалистическое и, в то же время, удивительное зрелище настолько погрузило меня с Валерой в какое-то блаженное небытие, что мы просто утонули в пугающем безмолвии, стесняясь, наверное, произнести какое-нибудь, не приличествующее данному моменту, слово. Когда первые лучи майского солнца коснулись причудливых крыш средневековых зданий, мы с Валерием, замыкая круг нашего ночного бдения, минуя вокзал, приблизились к железнодорожному мосту. Поднявшись на него и, не без затаённого удовольствия закурив сигареты «Орбита», мы наблюдали за плавным движением зелёных вагонов, отходящих от вокзала по блестящим металлическим рельсам в недосягаемую и непостижимую даль. В совокупности с мистикой ночного города, эта какая-то мистическая трансцендентность рождала во мне щемящую, едва уловимую грусть, которая удивительным образом накладывалась на чуть ли не наркотическую эйфорию. Похоже, что нечто подобное испытывал и Валерий, по инициативе которого это всё произошло. Возможно от избытка этих головокружительных ощущений он неожиданно встрепенулся и, сбросив с моста вниз недокуренный «бычок», сказал:
– Всё решено: это наша последняя сигарета. В эту минуту мы с тобой бросаем курить.
Несмотря на то, что уже через два дня мы с Валерием дружно бросились в магазин за сигаретами, а я продолжал курить ещё полвека, этот мост, по инициативе моего друга, был символически назван «мостом последней сигареты». Таким он остался у меня в памяти и сегодня.
Однажды, читая, не помню, какую книгу, наткнулся на перл, который запомнился. Просто на вопрос, что ищет мужчина в женщине, был получен, вполне вразумительный, ответ – отличия от предыдущих. Это я к тому, что когда моего Валеру познакомили с обаятельной и симпатичной Ирочкой, в его обиход слово «бывшая» не входило. Веской причиной тому являлось полное отсутствие в жизни, как предшествующих, так и настоящих представительниц противоположного пола. Несмотря на свои прекрасные внешние данные (атлетическое телосложение, высоченный рост и совсем не безобразная, а, скорее даже, привлекательная наружность), отношения с женским полом у Валерия складывались в форму, которую принято называть опосредственной. Иначе говоря, слова «женщина» и «проблема» для него являлись синонимами. Виной тому были его, созданные природой, скромность и застенчивость. Кто мог подумать, что совсем не на голубом небосклоне, а в квартире его коллеги, где они баловались свежим пивом, засияет звёздочка, которую через какие-то полгода он назовёт своей женой. Ирочка, которая приехала из Краснодара в гости к своему брату, заводскому приятелю Валерия, вернётся в этот южный город только для того, чтобы перевезти свои вещи в древний Львов. Привлекательная, изящная, очаровательная, под стать будущему мужу, высокая, южная девушка ошеломила моего друга не столько даже красотой, сколько вниманием, теплотой и сердечностью к его скромной персоне. Ирочка, как и Валерий, будучи маленьким ребёнком, лишилась родителей и проживала в Краснодаре с своей старшей сестрой. Она каким-то непостижимом образом, скорее даже посредством феноменальной женской интуиции, заметила в моём друге то, что не увидели другие девушки. Кроме внешних данных, которые, разумеется, никто не отменял, Ирина определила в будущем муже такие качества, как надёжность и верность, стойкость и ответственность, а также мужество и самообладание. А что же, Валерий? Тут всё намного проще, недаром говорят, что, когда мужчина смотрит на красивую женщину, дьявол одевает ему розовые очки. Ни чёрта, ни дьявола, ни нечистой силы здесь, конечно, же не было. Впрочем и очки не пригодились. Даже без них, он видел в Ирине, поистине, розовую, лучезарную, сверкающую и нежную женщину, с которой готов был связать свою дальнейшую жизнь.
Второй раз, после свадьбы Толика Титаренко, я был приглашён засвидетельствовать бракосочетание близкого друга. Одновременно меня также призвали стать тамадой на его женитьбе. Понятно, что я не оканчивал курсы распорядителей свадьбы и ведущих каких-либо массовых торжеств. Но, когда Валерий, порывисто обнял меня и сказал:
– Сенька, дорогой! Если не ты, то кто? – я понял, что отказы не принимаются.
Свадьба проводилась в тесной однушке дома – «хрущёвки» (панельные пятиэтажки с малогабаритными квартирами, воздвигаемые в СССР в 60-70 годах прошлого века). До сих пор не понимаю, как в крошечной 16-метровой комнатке поместились четыре десятка человек. Помню только, что вместо стульев по всему периметру стола в форме буквы «П» (для большей вместимости гостей) были длинные доски, поставленные на, красного цвета, маленькие табуретки. Понятно, что гости сидели, мягко говоря, компактно и скученно, бок о бок, как шпроты в консервной банке и что яблоку упасть было негде. Однако уже после первых рюмок отечественной водки они убедились в правильности поговорки «в тесноте, но не в обиде». Первый свой тост я читал по бумажке, двухстраничный текст которой являлся домашней заготовкой. Поразительно, что после пятиминутного его прочтения раздались бурные аплодисменты, которые, как я понял, предназначалась новобрачным. Но, когда я увидел, что несколько женщин украдкой вытирают слёзы, я понял, что часть этих оваций предназначалась и мне как автору этой здравицы. С того памятного момента почти на всех свадьбах друзей мне доверяли почётную роль распорядителя. Что же касается бракосочетания Ирочки и Валеры, то здесь уместно заметить, что новоявленный муж твёрдо знал, чтобы он не дал своей любимой жене, она отдаст ему больше. В первую брачную ночь он подарил ей семя, а она ему потом чудесного малыша. Через три года с помощью очередной «семечки» Валерия Ирина дала жизнь ещё одному очаровательному мальчику. При всех раскладах выходило, что взамен на пылкую и безумную любовь к своей женщине, мой друг всегда получал от неё несоизмеримо большее.
Не скрою, приятно вспоминать то, что всплывает в памяти «по кайфу», только до безумия грустно, тоскливо и тревожно осознавать, что мой близкий и верный друг Валерий Краснобаев «отдыхает» сейчас на небесах под божественной сенью райского сада.
Да будет пухом ему земля!
Глава 3. Игорь (Изя) Векслер
1948 года рождения, еврей, механик по ремонту бытовой техники
Имя Игоря Векслера у меня почему-то связано с географией древнего Львова. Ни одна из его узких и брусчатых улиц не напоминала мне так моего безвременно утраченного друга, как перекрёсток проспекта Ленина (проспект Свободы) и Максима Горького (академика Гнатюка). Именно там, в историческом центре города, помещалась небольшая мастерская, где Игорь ремонтировал пишущие машинки, электрические утюги, мясорубки, пылесосы и другую бытовую технику. Здесь следует добавить, что в его советском паспорте в графе «социальное положение» совсем не случайно присутствовала запись «их рабочих». Хорошо помню его отца, дядю Мишу, который работал шофёром-разгрузчиком машины, на фургоне которой было написано «хлеб». Внутри него находилось нечто похожее на огромную этажерку, где располагались деревянные лотки, на которых лежали слои хлебобулочных изделий. Разве можно забыть запах и вкус того, только что испечённого хлеба, который, конечно, существенно отличался от купленного в магазине. Мало, кто из покупателей «насущного изделия» догадывался, что дядя Миша поднимался на работу посреди ночи, ехал на этой «фуре» в пекарню, где своими руками заносил хлебобулочные лотки, завозил их ранним утром в городские магазины и сам же разгружал. Так что всё было правильно, и рабочее социальное происхождение Игоря не подлежало сомнению.
Впрочем никто также не сомневался в достоверности той национальности, которая была вписана в ещё одной графе советского «аусвайса», называемой «пятой». Игорь был копией своей мамы, тёти Доры, а она, в свою очередь, являлась зеркальным отображением колоритной, полной одесского юмора, анекдотичной тёти Сони. При этом она была больше похожа на последнюю, чем старательно подобранный её прообраз артисткой Кларой Новиковой. Игорь, несмотря на то, что никогда не употреблял пенный напиток, унаследовал от отца пивной животик, а от, рождённой на одесской Молдаванке, матери, весёлый нрав и жизнерадостно-шутливый темперамент. При всём этом, совсем не нужно было быть антропологом, чтобы опознать в Игоре, как говорил первый президент СССР М. Горбачёв, «лицо» еврейской национальности. Именно по этой причине ему часто доставались тумаки от уличной шпаны и обидные слова, фиксирующие факт его «неправильного» этноса. Именно это побудило его изменить, записанное в свидетельстве о рождении, еврейское имя Изя на русское – Игорь. Это совсем не означало, что в будущем паспорте вместо старого имени будет вписано придуманное. Однако чисто психологически с именем Игорь ему стало намного легче функционировать в этой жизни. Тётя Дора, мать Игоря, часто говорила:
– Ты только посмотри на моего сына, никакого толка, одна бестолочь. Что с него выйдет? Будет, как его папа халу по магазинам развозить, – при этом, указывая на меня, она продолжала, – вот твой друг будет главным инженером или доцентом, а тебе, Изя, даже не на хлебной, а на мусорной машине придётся ездить. Не понимаю, как ты, при этом, будешь семью кормить.



