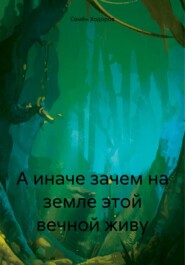
Полная версия:
А иначе зачем на земле этой вечной живу
Если насчёт меня тётя Дора оказалась пророчески права, то по поводу сына непредсказуемо ошибалась. Игорь в своей последующей жизни не был никоим образом связан ни с хлебопродуктами, ни, тем более, с мусором. Сохраняя титул «выходца из рабочих», он овладев «пролетарской» специальностью механика-ремонтника, кормил свою семью лучше, чем я в первые годы своей преподавательской деятельности до защиты диссертации.
Игорь учился в параллельном классе на «твёрдые троечки». В его случае еврейская генеалогия школьной практикой не подтверждалась. Традиционные арифметические задачки с осточертевшими вопросами, где встретятся два поезда, отправленные из разных пунктов или за сколько времени наполнят гипотетический бассейн две трубы, были для Игоря выше понимания той непреложной истины, которую сулила ему математика. Познакомились мы с ним поближе в шестом классе. Случайно узнав, что я неплохо пишу сочинения, он попросил написать за него это школьное творение. Неоспоримое, к удивлению его учительницы русского языка, «отлично» за чужое творчество положило начало нашей дружбе. В ней не было каких-то особых взлётов или падений, ибо заключалась она в постоянной моральной поддержке и бескорыстном заступничестве друг за друга.
Говорят, что дружба базируется на сходстве взглядов и общности интересов. В нашем случае речь шла о какой-то странной гармонии. В то время, как уже в младших классах я увлечённо занимался в кружке «Умелые руки» в клубе железнодорожников, а затем в группе «Юный фотограф» во Дворце пионеров, Игорь кучковался в уличных компаниях. Несмотря на иудейское происхождение, на которое, мягко говоря, ему неоднократно указывали его дворовые соратники, он воровал цветы в городском саду с тем, чтобы поближе к вечеру продать их по сходной цене влюблённым парочкам, искавших приют на укромных скамеечках в том же парке.
В свободное от школьных занятий время Игорь проделывал ещё один замечательный трюк, достойный почётного места в учебном пособии для юного бизнесмена, если бы таковые существовали в то далёкое время. Именно тогда в трамваях и троллейбусах, бороздивших городские кварталы, был упразднён штат кондукторов, взимающих с пассажиров деньги за проезд. Вместо них в подвижном городском электротранспорте были установлены малогабаритные кассовые аппараты. Поскольку тогда электроника ещё не была на современном уровне, то эти устройства имели весьма примитивную конструкцию. Граждане пассажиры должны были бросать в прорезь монеты соответствующего достоинства и отрывать себе из, висящего на рычажке, всем доступного бумажного рулона, билетик за проезд. Но доблестные конструкторы, не имеющего аналога в мировой практике чуда-аппарата, не приняли во внимание, что далеко не у всех, желающих заплатить электронному кондуктору, найдутся три или четыре копейки, соответствующие цене проезда в трамвае или троллейбусе. Этот промах создателей и использовал в своём, так называемом, бизнесе мой друг Игорь. Он уверенно заскакивал в вагон современной городской конки и с невозмутимым выражением лица делал вид, что бросает монету в двадцать копеек. После чего просил законопослушных дядей и тётей не опускать монеты в кассу, так как ему причитается сдача. Пересаживаясь из одного транспорта в другой и совершая таким образом добрый десяток разномаршрутных рейсов, Игорь зарабатывал немалую сумму денег, которая тратилась на мороженое, конфеты, пирожные и другие лакомства.
В то время, как я готовился к участию в городских математических или географических олимпиадах, Игорь увлечённо занимался игрой, которая называлась звучным словом «цок» или «чика». Суть этого незамысловатого, но азартного, развлечения тоже сводилась к денежному выигрышу. Этот барыш выражался в довольно приличной, вертикально выстроенной на твёрдой земле, горке монет, составляющей в сумме несколько рублей. Слева и справа от этого копеечного монолита проводилась черта. На расстоянии около десяти метров от неё прокладывалась стартовая линия, с которой поочерёдно бросали свинцовый биток, предмет особой гордости, уважающего себя, пацана. При этом неизменно наступал момент, когда кто-то из бросающих эту железную кругляшку, сбивал монетную стопку. Тогда те жёлтые и серебристые копейки, которые переворачивались, становились его собственностью. Затем остальные игроки, один за другим, кидали свои битки, которые оставались лежать на земле, и далее каждый, в строгом порядке, устанавливаемом по ранжиру удаления бросаемой «железки» от монет, начинал процесс, так называемой, «чеканки». Чеканить в переводе на нормальный язык означало бить битком по монетам: те, которые перевёртывались «решкой», являлись твоим законным трофеем. Игровой кон сопровождался возбуждёнными криками и громкими воплями юных игроков, воспламенённых пылкой страстью, темпераментным задором и неистовым азартом. Ну чем не прототип, чем не микромодель, неведомого тогда этим пацанам, современного казино, завсегдатаем которого Игорь станет в Америке через тридцать лет. Остаётся только добавить, что незабвенный биток Игоря был непростым: он был сделан по спецзаказу каким-то народным умельцем. Возможно, поэтому он зачастую являлся корифеем и победителем этого дворового казино.
Буквально через несколько лет после окончания школы Игорь познакомился с очаровательной киевлянкой Эллой, на которой незамедлительно женился, переехав в украинскую столицу. Его симпатичная жена одарила его двумя сыновьями, с которыми он эмигрировал в американский город Чикаго. Здесь американская мечта, представляющая некий символический феномен и психологическое клише идеала жизни в США, не казалась Игорю чем-то несбыточным. Почти сразу по прибытию в Америку он явственно чувствовал её сладкий и неповторимый долларовый запах. Игорь совсем не рвался чинить кухонную утварь в гангстерской столице страны дядюшки Сэма. Он полагал, что зачатки уличного бизнеса во Львове непременно должны были сделать его владельцем казино. Однако завсегдатаем азартных игорных заведений он станет значительно позже, когда на банковском счёте накопится необходимый денежный баланс и когда он приобретёт трёхэтажную недвижимость в хорошем районе Чикаго.
Я не виделся с Игорем, наверное, более четверти века, пока в один, не самый худший в моей жизни, день в нашей, уже израильской, квартире раздался ночной телефонный звонок. Подняв трубку, я неожиданно услышал едва узнаваемый голос, который радостно возвестил:
– Вас беспокоит, если помните, товарищ Векслер. Так получилось, что я нахожусь на Святой Земле. Жажду обнять тебя, пусть в случайной, но долгожданной встрече.
Грядущим утром, отменив все, как необходимые, так и второстепенные дела, мы с Игорем и нашими жёнами встретились на набережной Тель Авива в трендовом русском ресторане «Баба Яга». Игорь взволнованно рассказывал, как хорошо и вольготно ему живётся в Америке, намекая на то, что он финансово устойчив и более, чем благополучен. Буквально несколькими словами, явно не желая разглагольствовать об этом, он заметил, что пахучести больших денег предшествовал неприятный запах бензина. Именно горючее топливо составило основу бизнеса Игоря, который потом назвали легковоспламеняющимся. При этом расхожее мнение, что русские деляги на американских автозаправках нахально разбавляли бензин водой, вряд ли соответствует реалиям. Суть криминального проекта, в который был вовлечён мой друг, была идеально проста. Некая преступная группировка создавала разветвлённую сеть автозаправок во многих городах США. При этом их владельцами вписывались эмигранты из СССР, не владеющие английским языком. Найти таких желающих, при месячной зарплате семь-восемь тысяч долларов, не составляло особого труда. Таким образом, бензин успешно продавался владельцам американских автотранспортных средств. При этом отчислять налоги великой державе никто не тропился, попросту «забывая» об этом. Именно на этом строилась нехитрая концепция бизнеса, который вскоре набрал такие обороты, что после выплаты 70% прибыли своим хозяевам, вовлечённый в дело, эмигрант на искомой бензозаправке получал уже около полумиллиона долларов в месяц. Когда же приходили налоговые инспекторы, они наталкивались на тот барьер, который принято называть языковым, не позволяющий надзирателям пошлинной законности объясниться с налогоплательщиками в лице зиц-председателей компаний. Когда же через некоторое время чиновники объявлялись снова, говорить уже было не с кем: фиктивные директора исправно работали в тех же призрачных должностях, но уже на других автозаправках. Однако сколько ниточке не виться, а конец всегда обнажится. Недаром слово зиц-председатель трактуется Википедией как наёмник со стороны реального председателя с единственной целью – отвлечь от него внимание, а при случае – сесть в тюрьму вместо своего работодателя. Впрочем и само название образовалось от немецкого sitzen – «сидеть». Игорь не особо распространялся об этом, но похоже, что и ему не удалось избежать наказания в виде наблюдателя квадрата голубого неба через тюремную решётку.
На средиземноморской тель-авивской набережной мы с Игорем выпили немалое количество виски, вспоминая львовско-киевское прошлое и обсуждая американо-израильское настоящее. Только в будущее никто из нас не хотел заглядывать, так как во вчерашний день можно проскользнуть, сегодняшний – можно изменить, а завтрашний отдан на откуп Всевышнему. Очень жаль, что именно он и призвал моего друга к себе после его продолжительной болезни.
Да будет пухом ему земля!
Глава 4. Миша (Моня) Шварцман
1948 года рождения, еврей, парикмахер
Читатель уже догадался, что в заголовке этой главы имя, стоящее в скобках – паспортное, а перед ними – русифицированное, употребляемое в повседневной жизни. Нетрудно также сообразить, что причиной тому является еврейская фамилия Шварцман, которая в переводе, как с немецкого, так и с языка идиш означает «чёрный человек».
На самом деле, мой одноклассник Миша был, в противоположность своей фамилии, если и не белым, то определённо светлым и солнечным человеком. До сих пор не понимаю, почему меня, входившую в школьную элиту, которую сегодня называют «ботаниками», как магнитом, притягивало к неуспевающим и отстающим в учёбе ученикам. А ведь именно к этой неформальной когорте недорослей наши педагоги причисляли моего приятеля Мишу Шварцмана. К тому же и сегодня моему разуму неподвластно, как в одном индивидууме могли сочетаться блестящий ум, проявлявшийся в различных жизненных ситуациях, и поразительная бестолковость в арифметике, алгебре и геометрии, артистический талант в розыгрыше нештатных ситуаций и заурядная посредственность в языково-литературных предметах, невероятная изобретательность при игре в «подкидного дурака» и патологическая неспособность осмысления материала, изучаемого на уроках истории и географии.
Когда мы учились в пятом классе, всю школу потрясло событие, о котором говорили ещё не менее нескольких месяцев после его свершения. На первом этаже возле класса, где мы занимались, размещался школьный буфет. Помнится, что марципанами, креветкам, гамбургерами и пиццей там не кормили. Совсем небогатый ассортимент блюд состоял, как правило, из молочной каши, омлета, маленькой котлетки с пюре, какао или компота. В один, не самый прекрасный для Миши Шварцмана, день в школьную харчевню завезли медовые коврижки. Помню даже, что стоили они пятнадцать копеек за вожделенную штуку. Так получилось, что эти, памятные мне, испечённые сладости лежали на большом подносе, который располагался не на буфетном прилавке, а на одном из столиков. Никто не заметил, как Миша Шварцман, воровато оглянувшись, схватил три такие коврижки и спрятал их в кармане пиджака. Наверное этот молниеносный «блицкриг» так бы и остался незамеченным. Однако бдительная буфетчица, рыжеволосая тётя Настя, в последнее мгновение обнаружила пробел в раскладке коврижек на подносе и тут же, выпорхнув из буфета, заметила спину, вбегавшего в класс, ученика. В ту же минуту прозвенел звонок, и буфетчица зашла в класс вместе с учителем истории, который по совместительству был ещё и директором школы. Чтобы не растекаться мыслью по древу, отмечу только, что после обыска всех учеников, что, было произведено, как я сейчас понимаю, без санкции прокурора, искомые коврижки были обнаружены у того, кто позволил себе их присвоить, у моего друга Миши Шварцмана. Наверное, в заключение этого досадного эпизода из школьной жизни имело смысл заметить, что мама Миши работала на кондитерской фабрики. Это к тому, что мой одноклассник похитил эти сладости не для того, чтобы их поесть, а исключительно для угощения девочки, в которую был влюблён. В результате этой подростковой чувственности к Мише приклеился долго несмываемый ярлык «воришка», каким в реальной жизни он совсем не являлся.
Надо признать, что и с поведением, которое в советской школе тарифицировалась как учебная дисциплина, у Миши было далеко не всё в порядке. Он, правда, не разбивал стёкол, не участвовал в школьных или уличных драках и не дерзил учителям. В противовес перечисленному, у Миши был врождённый организаторский талант уговорить большую часть класса сбежать с урока, на котором планировались контрольная по математике или диктант по русскому языку. Это не спасало моего друга от неудовлетворительных оценок, но зато придавало чувство самоуважения и непомерного тщеславия. Да и что греха таить, Миша любил исчезать со школьных занятий и по собственной инициативе, и в одиночку. В этом плане ему вполне хватало ощущения собственной эмоциональной самодостаточности. В утренние часы школьных уроков он был завсегдатаем пустых залов городских кинотеатров. Как правило, до финального школьного звонка, извещающего о конце учебного дня, Миша успевал посмотреть три разных художественных фильма. Благо билет на утренние сеансы стоил всего двадцать пять копеек, и благо денег хватало за счёт неуголовной спекуляции (сейчас это называют бизнесом), которую он свершал по лично разработанному плану. Например, Игорь покупал в ближайшем магазинчике пончики с повидлом стоимостью в пять копеек и продавал их желающим, но уже по десять копеек за штуку. Стоит добавить, что от желающих не было отбоя. Таким образом, мой дружок на практике внедрял в жизнь экономический закон К. Маркса о прибавочной стоимости. А ещё Миша без стеснения за тот же гривенник сдавал в прокат свой культовый двухколёсный велосипед «Орлёнок» за два круга вокруг квартала возле дома, где он проживал. Интересно, что в это время за двадцать копеек можно было купить двести грамм пролетарских конфет «подушечки», внутри которых находилась сладкая фруктовая патока, или съесть пять пирожков с ливером, или выпить пять стаканов газированной воды с сиропом крюшон, или с удовольствием прогрызть два больших стакана хорошо прожаренных семечек, лихо выплёвывая их чернеющую шелуху. Безусловно, что всё отмеченное не прошло мимо внимания дирекции и педагогического совета школы. Они вовсе не отождествляли содеянное, совсем не глупым, тинэйджером с деловым предпринимательством и выставили ему в школьном табеле, даже не «четвёрку», а злосчастную «тройку» за поведение. Такая оценка в школе была сопоставима, разве что только с «волчьим билетом», свидетельствующим о неблагонадёжности и нелояльности ученика.
Вопреки этой вопиющей несправедливости педсовета школы, Миша как раз был очень ответственным, заслуживающим доверия, преданным и верным другом. Одному богу известно, сколько времени я просидел с ним за одной партой и сколько дней мы провели на обветшавшем заброшенном чердаке моего дома, где делились самым сокровенным, раскрывая друг другу секреты и тайны, неведомые нашим родителям. А ещё была у нас в церковном саду недалеко от школы раскидистая крона старого каштана, на массивных ветвях которого мы устраивали бесконечные разборки того или иного, казавшегося нам значительным, события. Именно на этом самобытном красавце-каштане мы выкуривали свои первые сигареты из помятой зеленоватой пачки с революционным крейсером «Аврора», именно здесь впервые, не без должного усилия, вскрыли пробку бормотушного вина с красивым названием «портвейн белый таврический». Нас, как магнитом, тянуло друг к другу, мы не могли долгое время быть разделёнными вне школы, и поэтому все вечера проводили вместе, придумывая всё новые сценарии и сюжеты совместного досуга. Нам никогда не было скучно, всегда находилось какое-нибудь, по большей части, авантюрное деяние, целиком и полностью захватывавшее наши, ещё не полностью заблудшие в то время, души.
Неторопливая вереница учебного лицедействия закономерно достигла своей высшей точки, естественным апогеем которой стала грустная мелодия школьного вальса, звучавшего на традиционном выпускном вечере. Там из старой и давно забытой радиолы доносилось «плывут морями грозными, летят путями звёздными любимые твои ученики». Конечно же, Мише совсем не светило стать капитаном дальнего плавания, лётчиком-космонавтом или даже «сто двадцатирублёвым» инженером. Наверное, по этой причине он направил свои стопы в сферу бытовых услуг.
Забавной преамбулой будущей профессии Миши стала моя причёска. Помнится, ещё во время учёбы в старших классах, было модно устраивать вечеринки. Как правило, они были приурочены к дню рождения кого-нибудь из одноклассников. Незаменимой и притягательной фишкой подобных междусобойчиков, после принятия нескольких бокалов вина, были незаменимые танцы под мелодии из грампластинок. В конечном итоге наступал ожидаемый, но не менее волнующий от этого, момент, когда кто-то из присутствующих обязательно восклицал, что темнота – друг молодёжи, выключая при этом свет в комнате. Это служило призывным сигналом юношам поближе привлечь к себе своих партнёрш и, в случае их молчаливого согласия, поцеловать. Разумеется я, как и остальные, тщательно «навострил лыжи» на одну из таких вечеринок. В подготовительный марафон входило использование, совсем недавно приобретённого, бритвенного прибора, утюжка рубашки и модных тогда узких брюк-дудочек и, конечно же, приведение в достойный вид своих волос. Именно в последнее внёс свой неоценимый вклад Миша. Он в издевательской форме раскритиковал мою тогдашнюю причёску, которая заключала в себя зачёсывание, торчащих во все стороны, длинных волос назад и открывала, итак не в меру, широкий лоб. Вместо этого, Миша, чуть ли не силой, подвёл меня к старому трюмо и, как сказочный волшебник, с помощью ножниц и расчёски в течение четверти часа совершил парикмахерское чудо, соорудив мне пробор с левой стороны. Должен сказать, что эту причёску я ношу и по сей день с той лишь разницей, что волосы поменяли свой цвет с чёрного на серо-стальной. Вполне вероятно, что изменение в причёске, которое совершил мой друг, в значительной степени способствовала тому, что в наступившей темноте на вечеринке не я осмелился поцеловать девушку, а она меня. Вот такая преамбула.
Ну а теперь постскриптум. После окончания школы, когда большинство наших одноклассников направило свои стопы в институты и университеты, мой друг, успешно закончив курсы парикмахеров, предстал перед населением города укротителем волос, брадобреем и, если хотите, своего рода, не севильским, а львовским цирюльником Мишей Шварцманом. Местный комбинат бытового обслуживания направил его в небольшую парикмахерскую при бане, которая находилась в самом центре старого города. Как выяснилось позже, место оказалось весьма доходным. Не зря директор комбината, усмехаясь в усы, напутствуя Мишу, добродушно заметил, что там, ушедшему на пенсию, парикмахеру хватало не только на хлеб, а и на масло, которое густым слоем можно было намазать на него. Далеко не шикарный салон, в котором Миша был не только единственным мастером, а и сам себе хозяином, помещался в небольшом предбаннике напротив общемоечного отделения, в котором трудовой народ смывал, накопившуюся за неделю, грязь. В то, уже далёкое, время подавляющее большинство городских домов не были оборудованы ванными комнатами, и поэтому трудящиеся посещали баню намного чаще, чем театры и библиотеки. И так уж было заведено, что перед принятием водных процедур горожане желали привести в порядок тот покров, который украшал верхнюю часть их головы. И тогда Миша, ловко орудуя ножницами, набором расчёсок и машинкой, подстригал и укладывал волосы своих клиентов, приводя их причёски в опрятный и красивый вид, не забывая при этом надушить или, если хотите, освежить их легендарным одеколоном «Тройной» из прозрачного пульверизаторного флакона. При этом он внимательно выслушивал все жизненные проблемы клиента, делился приятными новостями, комментировал политические события, рассказывал анекдоты и другие, пришедшие на ум, нелепицы и несуразицы. Через короткое время Миша стал, если и не лучшим другом, то, по крайней мере, большим приятелем своих банных посетителей. И за это человеческое отношение, которым городская сфера обслуживания отнюдь не баловала своих клиентов, трудовой народ ценил и уважал Мишу и воздавал ему сторицей. Как правило, вместо тридцати или сорока копеек за стрижку благодарные клиенты выдавали своему цирюльнику один рубль, нарочито забывая положенную сдачу. При всём этом, Миша был талантливым мастером парикмахерского дела, успевая за один час обслужить пять клиентов при десятичасовом рабочем дне. Отсюда выходило, что при официальной зарплате восемьдесят рублей его месячный доход составлял не менее семисот рублей. А это уже превышало зарплату профессора или директора крупного завода. И, когда я, по старой дружбе, приходил к Мише на бесплатную стрижку, он неизменно подзывал, уже немолодого, рыжего банщика Изю и просил его тоже бесплатно попарить несчастного инженера, тёмно-синий институтский ромбик принадлежности к которому, я с напускной гордостью носил на отвороте своего поношенного и единственного пиджака. Через некоторое время Миша тоже получил поплавок светло-голубого цвета, который совсем не спешил цеплять на белый халат львовского брадобрея. Кто мог подумать, что он окончит заочное отделение товароведного факультета торгово-экономического института. На мой бестактный вопрос, почему он не работает по специальности, Миша, многозначительно заглянув мне в глаза, устало полюбопытствовал, известно ли мне, что зарплата советского товароведа мало чем отличается от жалования «совкового» инженера. Комментировать эту справедливую реплику мне уже тогда показалась излишней.
Мне трудно ответить на вопрос, почему Миша Шварцман вместе со своими соплеменниками еврейского этноса не уехал в Израиль. Возможно узнал, что на исторической родине более 70 000 адвокатов и более 15 000 зубных врачей и после несложной экстраполяции пришёл к выводу, что работников ножниц и расчёски там достаточно много. Думаю, что он не очень-то и ошибался, сегодня только возле моего дома в стометровом радиусе не меньше шести парикмахерских. Как бы там ни было, Миша Шварцман остался в должности львовского цирюльника до конца своей не очень-то складной и совершенной жизни, которая внезапно оборвалась, не достигнув семидесятилетнего рубежа.
Да будет пухом ему земля!
Глава 5. Олег Фикс
1948 года рождения, русский (по матери), еврей (по отцу), спортивный тренер
С Аликом я тоже учился в одном классе. Наша дружба началась с небольшого кровопролития. Красная мокрота густо стекала не у меня, а из носа того, кого я, после этого случая, назову своим товарищем. Уже вечерело, когда я возвращался с ледяного катка, где впервые опробовал свои, знаковые в то время, коньки – «дутыши», подаренные родителями в день рождения. Удовольствие, полученное от катания, испохабил Коля под кличкой «Чёрный», с которым я столкнулся в подъезде своего дома. Здоровенный долговязый верзила, самый авторитетный хулиган, можно сказать, «пахан» нашего района с, зажатой в губах, папироской «Беломорканал», смотрел на меня своими помутневшими пьяными глазами и требовал деньги, которых у меня не было. В какой-то момент он приподнял меня за грудки и замахнулся для удара, по завершению которого я, вполне вероятно, забыл бы как про коньки, так и про многое другое.
Не знаю, какое по счёту чудо света занесло в мой дом Алика. Именно в это, совсем не чудное, мгновение, он спускался вниз по ступенькам. Увидев меня, зажатым в мускулистых руках Коли Чёрного, Олег, не раздумывая нанёс ему сзади два удара: один в шею, другой в спину. После этого внезапного блица я остался лежать на полу, а маститый хулиган быстро сгруппировался и ринулся на Алика. Не знаю, сколько времени длилась бы эта жестокая кулачная драка, если бы в подъезд не вошёл милиционер, мой сосед дядя Гриша. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы Коля Чёрный сообразил, что у него и так много приводов в органы, которые принято называть компетентными, и бросился наутёк. Историческое значение этой, далеко не бескровной, потасовки состояло не столько в том, что Алик посмел вступить в неё с лидером районного хулиганья, не боясь вполне предсказуемых последствий, а в решительном и героическом доказательстве тезиса «защита слабых – дело сильных».
Фамилия моего друга Фикс в переводе с латыни (fixus) означала «твёрдый». Синонимы этого слова – надёжный, устойчивый, решительный, мужественный и стойкий как нельзя лучше подчёркивали характер Алика. В этом он являлся для меня бесспорным мэтром и личным примером непоказной принципиальности и невероятной силы духа. Он не был самонадеянным и приглаженным отличником учёбы, он являлся, прежде всего, самоотверженным борцом не на татами для дзюдо, а воином в обыденной и суетливой жизни.



