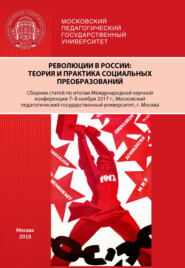 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Тема участия пролетариев в российской революции 1917 г. становится одной из основных в английских и американских исследованиях истории России в 80-е гг. ХХ в. – начале XXI в. В работах В. Боннель, Л. Энгельстайн, Д. Манделя, Д. Кенкер, Ст. Смита, Р. Суни, Р. Уэйда и др. была развернута концепция сознательного выбора рабочими и другими участниками революций советской альтернативы. По словам Д. Манделя «русская революция была слишком сложным явлением, чтобы его можно было свести к простой формуле. Она была, помимо прочего, солдатским мятежом, крестьянским восстанием, движением национальных меньшинств. Но она была также и особенно пролетарской революцией… Именно на долю рабочих выпало дать революции направление, организацию и большую часть действующих сил»102. В работах английских и американских историков российское рабочее движение было даже несколько идеализировано. Ст. Смит воспел российский рабочий класс как наиболее могущественную силу в обществе, способную противодействовать чрезмерным запросам103.
Д. Мандель и Д. Кенкер объяснили революционный процесс как логический результат непреодолимого развертывания процесса радикализации рабочих. «Радикализация» – ключевое понятие в американской историографии российской революции 1917 г. Процесс радикализации, как показывает Д. Кенкер, набирал «силу в ответ на влияние специфических экономических и политических обстоятельств» и «отражал политическое созревание все большего числа рабочих»104. А. Рабинович в рецензии на книгу Ст. Смита «Красный Октябрь. Революция на фабриках, 1917–1918 гг.» пишет: «Смит показывает, что движение за рабочий контроль росло среди петроградских рабочих весной 1917 г. стихийно, как практическая реакция на экономическую проблему»105. В процессе радикализации рабочего движения Д. Кенкер придает поворотное значение корниловскому мятежу, как яркому олицетворению для рабочих «враждебности классового врага делу революции»106.
Английские и американские историки провели параллели между радикализацией рабочего движения в 1905–1917 гг. в России и более ранним периодом индустриального развития в Европе. В. Боннель считает, что «радикальные идеи и социалистическая идеология находили внушительный отклик среди квалифицированных нефабричных групп и «заводских мастеровых» – рабочих с относительно развитой социальной самооценкой, чувством гордости и независимости и верой в их право на лучшую жизнь»107.
Революционный исход событий определялся тем, что, как пишет Р. Суни, «все больше и больше групп рабочих наряду с солдатами, матросами и другими («низшие классы») испытывали чувство замкнутости и отчужденности как в социальном, так и в политическом плане от цензового общества («имущие классы»)»108. Уже к 1905 г., году начала революции в России, как показали американские историки, неприменимо понятие «народа» как единого целого109. Выделившийся рабочий класс, осознавший в ходе революции 1905–1907 гг. свою отчужденность от цензового общества, в дальнейшем все более сплачивался и укреплялся.
Западные историки обращают внимание на то, что среди рабочих выделялись молодые малоквалифицированные рабочие, заряженные идеями политического переустройства России110. Характер событий 1917 г. в Петрограде определялся преобладанием в структуре пролетариата так называемых крестьянских рабочих, рабочих-женщин и рабочих молодых или «новых рабочих», составлявших около 60% рабочей силы111.
Английские и американские историки, исследовавшие взаимосвязи пролетариев и большевистской партии, пришли к выводам о том, что на протяжении 1917 г. контакты нарастали вследствие «растущего соответствия между желаниями последних [рабочих – Е.К.] и партийной программой и стратегией»112. Причем особо отмечалось, что этот процесс был вызван «не преданностью к большевикам как к партии»113 и «не результатом удачного использования партией инстинктивных порывов рабочих»114, но тем, что программа и стратегия РСДРП(б) в наибольшей степени соответствовала интересам и чаяниям рабочих.
Преобладание революционного, но не реформистского настроя среди рабочих В. Боннель объясняет тем, что социал-демократическое движение было разобщено: «меньшевиков поддерживали профсоюзы рабочих-металлистов», «большевики же имели наиболее энергичных и воинственно настроенных последователей среди пекарей, портных и других ремесленников, а также среди некоторых групп индустриального населения»115.
В объяснении событий 1917 г. многие английские и американские историки опираются на концепцию «разрыхленной партии», предложенную А. Рабиновичем в книге «Большевики приходят к власти»116.
Западные историки обращают особое внимание на противоречия в отношениях рабочих организаций и партийных комитетов. Д. Мандель отмечает, что в дни июльского кризиса 1917 г. петроградские пролетарии оказались в изоляции. Произошло кровопролитие, вину за которое Д. Мандель возлагает непосредственно на большевиков117. Д. Кенкер также порицает ЦК РСДРП(б), члены которого оказались неготовы к восприятию ситуации «созревшей для насильственного захвата власти»118.
Д. Кенкер, У. Розенберг отмечают расхождения между рабочими организациями и партийными комитетами по вопросу проведения стачек. Так, политическую линию большевиков во время стачки московских кожевников в сентябре-октябре 1917 г. Д. Кенкер характеризует как незрелую, определяемую страхом перед преждевременной всеобщей забастовкой, угрозой выхода рабочего движения из-под контроля и срыва планов организации вооруженного восстания. Д. Кенкер усматривает трагическую дилемму октября 1917 г. в Москве в коллективном осознании рабочими необходимости решающих политических мер, с одной стороны, и незрелости руководства, способного направить их к достижению цели, с другой стороны119.
Октябрьское восстание в описании Д. Кенкер, А. Рабиновича и др. выглядит как следствие провокации «Керенского, направленной против Военно-Революционного Комитета, большевиков и Совета»120. По мнению Р. Уэйда, автора книги о Красной гвардии и рабочей милиции в русской революции, партийные лидеры большевиков недопонимали той роли, «какую Красная Гвардия могла бы сыграть и в действительности сыграла»121. Рецензент книги Ст. Смит отметил, что «Красная гвардия была независима от партийного контроля и располагала всего лишь пассивной поддержкой со стороны большевиков»122.
Таким образом, в английской и американской историографии 80-х – 90-х гг. ХХ в. Октябрьская революция стала рассматриваться не как переворот, а как революция социальная. «Власть, которую рабочие захватили в октябре 1917 г. ушла из их рук в ходе гражданской войны»123.
Английские и американские историки отказались от одиозных схем предшествующей историографии и внесли свой существенный вклад в исследование истории русской революции 1917 г.: «Мы [американские историки рабочего класса – Е.К.] были очарованы и потрясены тем, что было сделано во имя построения социализма»124, – признался Л. Сигельбаум. Несмотря на то, что в последние годы интерес к рабочей тематике в западной историографии снизился, работы, созданные в 80-е гг. ХХ в. – начале 2000-х гг. продолжают оставаться актуальными и востребованными. Тема «Рабочий класс и революция 1917 года в России» в современной историографии требует своего дальнейшего изучения.
Меры, направленные на придание братанию организованного характера на Юго-Западном и Румынском фронтах (ноябрь – декабрь 1917 г.)
Курицын С.В.
Аннотация. В данной статье рассмотрены меры, принимаемые солдатскими комитетами и ВРК в различных воинских соединениях Юго-Западного и Румынского фронтов, направленные на придание братанию организованного характера.
Ключевые слова: братание, Русская армия, Юго-Западный фронт, Румынский фронт, Военно-революционные комитеты, перемирие, меновая торговля.
MEASURES AIMED AT GIVING FRATERNIZATION ORGANIZED ON THE SOUTHWEST AND ROMANIAN FRONTS (NOVEMBER – DECEMBER 1917)
Kuritsyn S.V.
Abstract. This article describes measures of soldier's committees and the MRC in different military formations of the Southwestern and Rumanian fronts, aimed at giving fraternization organized.
Keywords: Fraternization Russian army, Southwest front, Romanian front, the Military revolutionary committee, a truce, barter.
После того, как 2 декабря 1917 г. между Советской Россией и Четверным союзом было заключено перемирие, советский Верховный главнокомандующий Н.В. Крыленко в своем «Обращении к войскам» вновь санкционировал братание, ранее им приостанавливаемое, и, более того, призывал к активному участию в нем, но строго на условиях, зафиксированных в Брест-Литовском договоре125. Таким образом, большевики продолжили, но уже в качественно иных условиях, превращать братание в спецоперацию по экспорту революции. И для этого ревкомы и большевизированные солдатские комитеты проводили работу по приданию братанию организованного характера. Однако эта деятельность планировалась и осуществлялась не в полном соответствии с предложенным в работах В.И. Ленина сценарием. Лидер большевиков в своей работе «Проект резолюции о войне» пояснял: «Под братаньем мы разумеем, во-1-х, издание воззваний на русском языке с переводом на немецкий для распространения их на фронте; во-2-х, устройство митингов русских и немецких солдат, через переводчиков, на фронте, с тем, чтобы капиталисты и принадлежащие большей частью к классу капиталистов генералы и офицеры обеих стран … не смели даже присутствовать на них»126. Если вбросы листовок в австро-германские окопы с революционными призывами стали массовыми после прихода большевиков к власти в России127, то сами формы контактов солдат, в связи с условиями перемирия, не соответствовали ленинскому плану.
На Юго-Западном и Румынском фронтах придание братанию организованного характера военно-революционные комитеты развивали по двум направлениям: ограничение стихийного братания и выбор специально уполномоченных лиц для братания. Что касается ограничения стихийного братания на фронте, то для этого, к примеру, в 207-м пехотном Новобаязетском полку (52-я пехотная дивизия, 3-й Кавказский армейский корпус, 7-я армия, Юго-Западный фронт) при батальонах были организованы комиссии из 5 человек для противодействия братанию128. 29 ноября ВРК полка выработал специальную инструкцию для этих комиссий, в которой, в частности, предписывалось: «3) Во время стоянки на позициях члены комиссии должны находиться при ротах. 4) Один член этой комиссии находится на артиллерийском наблюдательном пункте. 5) Члены комиссии не должны допускать сближения солдат противных сторон с целью братания … 9) Строго соблюдать постановление о нейтральной зоне, чтобы люди не переходили линии проволочных заграждений»129. Следует отметить, что полномочия членов рассматриваемых комиссий ограничивались только противодействием стихийному братанию и не распространялись на установление контакта с солдатами и офицерами противостоящих воинских соединений: «10) В случае появления со стороны противника людей с белыми флагами, выяснить причину появления могут только члены комиссии, причем последние не уполномочены вести переговоры, а должны сообщить членам Военно-революционного комитета»130. Имелись в 7-й армии и уполномоченные лица для братания, что указано в Постановлении № 6 Военно-революционного комитета 3-го Кавказского армейского корпуса: «По вызову с австрийской стороны или германской стороны выступают только официально выбранные полками парламентеры от каждой бригады по одному солдату и по одному представителю от командного состава»131. В связи с данным положением цитируемого постановления необходимо отметить, что привлечение офицеров к участию в контактах с австро-германскими представителями также шло вразрез с установками В.И. Ленина, призывавшего «удалять … офицеров и генералов» от участия в братаниях132. По нашему мнению, это стало возможным и вследствие меньшей большевизации армий Юго-Западного и Румынского фронтов, где сильное влияние сохраняли партии эсеров и меньшевиков. Кроме того, обязательное участие представителей командного состава в группах уполномоченных для вступления в контакт с представителями противника, на наш взгляд, было обусловлено в немалой степени тем, что ревкомы не могли обойтись в этом вопросе без опыта и профессиональных знаний офицеров. Сходные подходы к организации братания имели место и в 11-й армии (Юго-Западный фронт). Так, в приказе Военно-революционного комитета 25-го армейского корпуса от 1 декабря предписывалось для передачи литературы и т.п. в немецкие окопы и для выяснения других вопросов в каждом полку организовать команду братальщиков, которым при братании следовало держаться осторожно и на заданные вопросы отвечать обдуманнее. Только через посредство таких команд в 25-ом армейском корпусе допускалось братание. Остальные способы братания приказывалось прекратить.
Похожие меры принимались и на Румынском фронте. Здесь еще до официального вступления в силу заключенного генералом от инфантерии Д.Г. Щербачевым договора о перемирии на данном фронте (26 ноября) Военно-революционным комитетом 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизии (8-я армия) 25 ноября были выработаны инструкции по организации братания. Согласно этому документу, надлежало принять в этом направлении следующие меры: «1) На участке каждого полка иметь в окопах одного дежурного члена полкового Революционного комитета полков, занимающих окопы. 2) В каждой роте и команде должны быть выбраны 2–3 уполномоченных для братания и необходимых переговоров с противником. 3) Братание и переговоры с противником могут вести только эти выборные лица, которые должны предварительно об этом ставить в известность дежурного члена Революционного комитета»133. Перечисленные меры близки к действиям ревкомов 7-й и 11-й армий Юго-Западного фронта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что придание братанию организованного характера развивалось на Юго-Западном и Румынском фронтах не столько по ленинским установкам, сколько путем перенимания австро-германского опыта в этом вопросе. Такое заимствование было обусловлено сходством целей, которые ставили перед собой большевики и Центральные державы – ведь в обоих случаях одной из главных целей была пропаганда, только большевики стремились к распространению революционных идей в Европе, а Германия и ее союзники – к усилению антивоенных настроений в рядах Русской армии. Отсюда и определенная близость методов в достижении цели, которые можно свести к трем основным пунктам: 1. Распространение литературы соответствующего содержания; 2. Противодействие стихийному (неорганизованному) братанию; 3. Отправка на братание специально подготовленных лиц. Все названные мероприятия в ноябре – декабре 1917 г. осуществлялись как той, так и другой стороной. Однако со стороны Русской армии эти меры были гораздо менее эффективны в силу меньшей подготовленности русских братальщиков к такой работе и все более расшатывающейся дисциплины.
Здесь необходимо отметить, какие черты имело реальное фронтовое братание в рассматриваемый период. А оно подчас не носило организованных форм, о чем, в частности, говорится в Сводке сведений о настроении в частях 8-й армии Румынского фронта: «Братание имеет стихийный характер, в некоторых частях есть стремление к организованному братанию, т.е. через войсковые комитеты»134. Также, несмотря на приказ Главковерха Н.В. Крыленко (14 ноября) и ВРК 11-й армии (21 ноября), в приказе Военно-революционного комитета 25-го армейского корпуса от 1 декабря указано: несмотря на то, что Верховным главнокомандующим тов. Крыленко отдан приказ о недопустимости братания, последнее все-таки происходит, и, нужно отметить, довольно неорганизованно и неосмотрительно. А в 3-ем Кавказском армейском корпусе 7-й армии (Юго-Западный фронт) на 2 декабря «… в некоторых частях корпуса началось братание артиллеристов, пулеметчиков и даже обозных»135, то есть, тех военнослужащих, которые отстоят от передовой на определенном, порой весьма немалом, расстоянии. Эти сведения позволяют нам сделать следующие выводы: в указанном корпусе к концу 1917 г. прогрессировало разложение даже таких наиболее устойчивых родов войск, как артиллерия, а также данная информация позволяет предположить значительные масштабы братания в пехотных частях, находящихся непосредственно в окопах. Но если приказ Н.В. Крыленко от 14 ноября и последовавшие за ним приказы военно-революционных комитетов войсковых соединений на какое-то время и в определенной мере и могли сдержать братание, то подписание перемирия и обращение Крыленко к войскам от 4 декабря вновь стимулировали развитие этого вида антивоенных выступлений. Еще одним показателем того, что братание продолжало сохранять неорганизованный характер является и приход солдат для братания в соседние роты. В этой связи в Постановлении Военно-революционного комитета 3-го Кавказского армейского корпуса (7-я армия, Юго-Западный фронт) № 6 предписывалось: «1) … солдат, не принадлежащих к данной роте и пришедших в роту с целью братания с противником, арестовывать и передавать Военно-революционному комитету для отправления в часть или роту, которой он принадлежит. 2) В случае попытки к братанию одного и того же лица: [в] первый раз – прекращать моральным воздействием ротных комитетов и батальонных комиссий, во второй раз – передавать ротному товарищескому суду и в третий раз – передавать упорствующего братальщика на усмотрение полкового Военно-революционного комитета»136.
Однако главным стимулом к братанию в октябре 1917 – январе 1918 гг. был отнюдь не порыв к распространению идей революции, а торговля с противником, желание получить от него те вещи, которых не было в России или они были дефицитными. Данная мотивация проявилась еще до событий 25 октября 1917 г.137, но после прихода к власти большевиков и санкционирования братания торговля в различных видах на фронте усилилась. О подобных фактах, имевших место в 7-й армии, сообщалось, в частности, в Донесении начальника штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерал-лейтенанта Н.Н. Стогова в Ставку от 18 ноября138. Также в Приказе Военно-революционного комитета 25-го армейского корпуса (11-я армия, Юго-Западный фронт) от 1 декабря указывалось на недопустимость обмена с нашей стороны хлеба и мыла на предлагаемые противником вещи, что говорит о распространенности этого явления в корпусе.
Следует обратить внимание, что особенно часто предметом, на который русские солдаты обменивали, в частности, хлеб, становился алкоголь. Это было обусловлено тем, что в России с 1914 г. действовал сухой закон, и спиртные напитки были труднодоступны, особенно для военнослужащих. Так, в Журнале № 48 экстренного заседания Военно-революционного комитета 207-го пехотного Новобаязетского полка (3-й Кавказский армейский корпус, 7-я армия, Юго-Западный фронт) также отмечено: «Не допускать обмен подарками, как-то хлеб на коньяк и т.п.»139. А Военно-революционный комитет 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизии (8-я армия, Румынский фронт) 25 ноября постановил: «Просить Военно-революционные комитеты и полковые комитеты разъяснять товарищам солдатам и офицерам о совершенной недопустимости злоупотребления спиртными напитками, полученными от противника»140. Таким образом, следует согласиться с выводом А.Б. Асташова, что алкогольная основа братаний в 1917 г. вышла фактически на первый план141.
Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на меры, принимаемые на Юго-Западном и Румынском фронтах для придания братанию организованного характера, прекратить стихийное братание не удалось. В значительной мере это было связано с тем, что в условиях перемирия братание все больше приобретало черты меновой торговли, которая и становилась главным побудительным мотивом к нему у солдат.
Влияние Февраля и Октября на офицеров и солдат русских войск во Франции и на Балканах
Чиняков М.К.
Аннотация. В работе впервые исследуется вопросы отношения русских офицеров и солдат, воевавших во Франции и на Балканах в Первую мировую войну, к Февральской и Октябрьской революциям. Большое внимание отведено особенностям изучения проблематики в отечественной литературе и характеристики источников. На основе неопубликованных и опубликованных источников автор подробно разбирает взгляды офицеров и солдат к вышеуказанные событиям и приходит к выводу об их неоднозначном и противоречивом отношении к Февралю и Октябрю.
Ключевые слова: Первая Мировая война, Октябрьская революция, Февральская революция, русские войска во Франции, русские войска на Балканах, отречение императора Николая II, большевики.
EFFECT OF FEBRUARY AND OCTOBER ON THE OFFICERS AND SOLDIERS OF RUSSIAN TROOPS IN FRANCE AND ON BALKANS
Chinyakov M.K.
Abstract. In this work, for the first time, questions of the attitude of russian officers and soldiers who fought in France and the Balkans during the first world war, to the February and October revolutions are being studied. Great attention is given to the peculiarities of studying problems in the domestic literature and the characteristics of the sources. On the basis of unpublished and published sources, the author thoroughly examines the views of officers and soldiers towards the above events and comes to the conclusion that they are ambiguous and contradictory towards February and October.
Keywords: The First world war, the October revolution, the February revolution, the russian troops in France, the russian troops in the Balkans, the abdication of emperor Nicholas II, the Bolsheviks.
В год 100-летнего юбилея знаковых политических событий, определивших дальнейшее существование не только истории России, но и всего мира, пристальное внимание привлекают события Февральской и Великой Октябрьской социалистической (Октябрьской) революциям разных слоев населения России, и особенно армии как главной политической силы во время Первой мировой войны (Великой войны). Однако, как правило, мнение военнослужащих о коренных политических изломах 1917 г. изучается только применительно к Восточно-Европейскому театру военных действий. Отношение к обеим революциям со стороны солдат и офицеров частей Российской армии, оказавшихся за пределами России (например, во Франции и на Балканах), не стало до сих пор темой для отдельного и детального освещения. Специальных работ по данной тематике не существует, за исключением редких и незначительных упоминаний в работах, посвященных истории пребывания русских войск за границей.
В связи с тяжелым положением на Западно-Европейском театре военных действий, в конце 1915 г. Франция обратилась с просьбой к Российской империи выделить войска для оказания помощи в борьбе против общего врага – держав Центрального союза. В силу специальных соглашений и договоренностей, заключенных между французским и императорским правительствами, в феврале 1916 г. – октябре 1917 г. Россия направила во Францию (и на Балканы) четыре Особые пехотные и одну Особую артиллерийскую бригады и один Особый инженерный батальон (после Первой мировой войны они стали известными под названием «Русский экспедиционный корпус»), всего – 50–60 тыс. солдат и офицеров. Во Францию были отправлены 1-я и 3-я Особые пехотные бригады, сведенные в июне 1917 г. в 1-ю Особую пехотную дивизию (под командованием генерал-майора Н.А. Лохвицкого), и на Балканы – 2-я и 4-я Особые пехотные и 2-я Особая артиллерийская бригады и 2-й Особый инженерный батальон, сведенные в том же месяце во 2-ю Особую пехотную дивизию (под командованием генерал-майора В.П. Тарановского).
Исходя из анализа рассмотренных источников, можно выделить среди них несколько групп.
Первая группа включает делопроизводственные материалы142:
• доклад Временному правительству о положении русских войск на Балканах от редакционной комиссии и президиума 1-го съезда представителей 2-й Особой дивизии (28 июня 1917 г.) (далее – Доклад Временному правительству);
• «Отчет о работе Управления Русской базы Македонского фронта в период времени с 1-го апреля 1918 г. по 10-е апреля 1919 г.», подготовленный начальником Русской базы в Салониках подполковником В.К. Эвертсом (далее – Отчет Эвертса);
• Отчет Отрядного комитета Русских войск во Франции (от 15 октября 1917 г.) (далее – Отчет Отрядного комитета).
Вторая группа источников – источники личного происхождения, систематизированные по принадлежности их авторов (которые должны были рассказать об отношении к обеим революциям) к воинским частям, сражавшимся во Франции и на Балканах.
I. Во Франции:
1. Не установленные143:
• Солдаты: И. Алешин, Д.У. Лисовенко; Н. Степной (Н.А. Афиногенов); офицеры: О.А. Перников.
2. Чины 1-й Особой пехотной бригады144:
• 1-й Особый пехотный полк:
– офицеры: отсутствуют;



