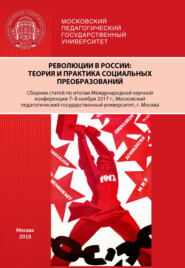 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Опыт Октябрьской революции и строительства социализма в советской России оказал влияние на развитие ряда стран. В частности, он дал возможность Китаю избежать участи колонии развитых капиталистических держав и стагнации в своем развитии. Развитие Китая во второй половине XX в. с пропуском стадии развитого капитализма показывает реализацию экономического принуждения к труду на основе сочетания частной и государственной собственности на средства производства. Этот путь так называемого российского нэпа имеет при опережающем росте частного сектора в экономике свою конечную историческую границу, за которой возникает угроза возврата к капитализму и в политической сфере, если не будет найден способ интенсивного экономического развития на основе государственной собственности на средства производства и сознательного отношения к труду.
Практическое развитие социализма в России и Китае показало, что возможность пропуска капиталистической формации не осуществляется стихийно, как это происходило при пропуске рабовладельческой формации. На этом пути возможны ошибки в государственном управлении, откаты назад, регресс и стагнация, мучительный поиск правильного пути общественного развития. Однако общество, однажды найдя возможность прогрессивного развития в новых исторических условиях, которые не обеспечивают нормального капиталистического развития, вынуждено двигаться к новым ступеням социального прогресса иным путем. Ради своего спасения общество рано или поздно находит конкретные формы такого пути и через ряд ошибок двигается вперед к социализму, пропуская оказавшийся невозможным в конкретных исторических условиях развитый капитализм.
Опыт Октябрьской революции в России показал на практике, что общество – это социальный организм, который, в отличие от биологического организма, опирается в своем развитии не на генетическую программу, а на культуру, транслируемую от поколения к поколению, а также воспринимаемую от других народов. Россия в начале XX в. была бы обречена на превращение в экономическую колонию развитых капиталистических стран Европы, если бы не Октябрьская революция 1917 г., открывшая для страны иной путь развития. И сегодня, в начале XXI в., вновь российское общество поставлено перед задачей вывести страну из положения экономической колонии, а, следовательно, вновь актуальными становятся история Октябрьской революции и вопрос о возможности опережающего, социалистического развития России.
Социальное проектирование будущего в утопиях XIX в.: альтернатива революции или ее идеология
Ермоленко Г.А., Кожевников С.Б.
Аннотация. В статье рассматривается влияние утопий Р. Оуэна, Ш. Фурье и К. Сен-Симона на формирование социально-философских идей русской революции.
Ключевые слова: идеология, утопия, исторический опыт, революция.
SOCIAL ENGINEERING OF FUTURE UTOPIAS OF THE NINETEENTH CENTURY: AN ALTERNATIVE TO REVOLUTION OR ITS IDEOLOGY
Ermolenko G.A., Kozhevnikov S.B.
Abstract. The article discusses the impact of the utopias of Robert Owen, Charles Fourier and C. Saint-Simon on the formation of socio-philosophical ideas of the Russian revolution.
Keywords: Ideology, utopia, historical experience, revolution.
Социальное проектирование будущего – важнейшая составляющая революционных преобразований. Утопические проекты – это метафоры реальности, точно передающие ее культурные коды, эстетические и исторические особенности. Социально-философские концепты определяют векторы исторической оценки такого неоднозначного события как революция 1917 г. и его место в исторической памяти, под которой мы понимаем «непосредственное переживание человеком как исторического события, так и исторической дистанции между прошлым и нынешним временем»51.
Революция традиционно характеризуется как социальный процесс с наибольшей интенсивностью действий, всеобщностью перемен и радикальными методами. Это приводит зачастую к одномерному восприятию такого исторического события и затрудняет его понимание. «Один и тот же исторический момент может получить бесчисленное количество значений и быть выраженным в разных регистрах исторической конкретики»52. Исследование утопических проектов позволяет вернуть историческому факту его многоплановость, представить его не только как музейный экспонат, а как интегративное единство прошлого настоящего и будущего. Значение этого подчеркивал Ж.-П. Сартр: «Человеческую реальность потеряют из виду, если не будут рассматривать ее значения как синтетические, многомерные, нерастворимые объекты, которые занимают особые места во времени-пространстве со многими измерениями»53.
Одной из первых утопий стал образ идеального государства Платона, описанный в IV в. до н.э. в диалоге «Государство». Идеальная социальная организация, возглавляемая правителем-философом, выступала в качестве образца справедливости. Конечно, образ государства Платона был далек от древнегреческой политической действительности, вместе с тем он точно выражал содержание того аристократического этоса, который в целом определял направления развития древнегреческого полиса. Социально-политическую картину Европы эпохи Нового времени точно передает утопический проект XVI в. Т. Мора «Утопия». В первой книге автор описывает нравственный кризис своего времени, связанный с огораживанием и показывает, что развитие английской промышленности, имеет свою обратную сторону – обезземеливание и обнищание крестьян. Во второй книге философ предлагает метафизический проект социального устройства и гуманистический идеал гражданина. На острове под названием Утопия нет места денежному обращению, привилегиям и смертной казни. В XVII в. Т. Кампанелла предлагает свой образец идеального государства «Город солнца», в котором уже не только отменяется денежное обращение, но и вводится коллективная собственность, граждане живут общиной под руководством Метафизика (ученого и первосвященника). Т. Кампанелла уповает на развитие науки как на главный инструмент улучшения социальной реальности. Технические открытия будущего должны, по его мнению, подчинить природу и облегчить жизнь человека.
Ранние утопии Платона, Т. Мора и Т. Кампанеллы – классические примеры социального проектирования будущего. В первой половине XIX в. возникли утопии, которые легли в основу социал-демократической идеологии и оказали значительное влияние на формирование революционных настроений в России в XIX – начале XX вв. Центр общественного движения в России первой половины XIX в. – студенческие кружки и редакции газет. В их программах речь не шла о разработке конституционных проектов. Актуальным был вопрос о справедливости социального устройства и правах человека. В Москве был создан кружок Д. Веневитинова, который посещали А.С. Хомяков, М.В. Киреевский, А.И. Кошелев. Н.И. Надеждин начинает издавать журнал «Телескоп», а действующий кружок философа и поэта Н.В. Станкевича посещают Т.Н. Грановский, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин. В кружке А.И. Герцена в Московском университете активно обсуждались работы социалистов-утопистов. В публичной библиотеке, созданной кружком М.В. Буташевича-Петрашевского в Санкт-Петербурге были книги социалистов-утопистов Р. Оуэна, Ш. Фурье и К. Сен-Симона. Утопические проекты будущего, несомненно, оказали существенное влияние на формирование социально-философских идей русской революции.
Английский промышленник Роберт Оуэн в своих работах «Книга о новом нравственном мире» и «Доклад графству Нью-Ланарк» обличает несправедливость капиталистического общества. На своей фабрике в Нью-Ланарке Р. Оуэн открывает светские школы для детей рабочих, строит благоустроенные жилища для рабочих, столовую, торговые лавки, сберегательную кассу и детский сад, сокращает рабочее время с 17 до 10 часов в день. Причиной бедности рабочих он называет включение в стоимость товаров прибыли. Р. Оуэн обосновывает трудовую теорию стоимости и противопоставляет теории народонаселения Мальтуса свою концепцию разумно устроенного общества, в котором ресурсов хватит всем. Программа преобразований Р. Оуэна исключает революции, ее главным инструментом являются разумные законы и просвещение населения посредством периодической печати и образования.
Социальный проект Р. Оуэна основан на метафоре «все люди – один братский союз», из которой следовал отказ от привилегий, равенство женщин и мужчин, свобода совести, права каждого человека не только на труд, но и на образование. Развитием этой концепции стала экономическая программа преобразований. В ее основе – постепенный отход от частной собственности: правительство постепенно скупает землю по рыночной цене у желающих ее продать. В будущем она становится общественной собственностью – единственным источником доходов государства. На скупленной земле создаются ассоциации «самостоятельные поселки», имеющие статус федеративных образований (500–3000 человек). В ассоциациях машинное производство заменяет ручной труд, а на смену национальным деньгам с завышенной стоимостью приходят боны.
Во Франции в это же время свою концепцию социальных преобразований выдвигает Клод Сен-Симон в работах «Письма Женевского обитателя к современникам», «О промышленной системе», «Катехизис промышленности». Идеал К. Сен-Симона – общество «индустриального равенства», переход к которому исторически неизбежен и может быть осуществлен без революции. Рыночная экономика выступает в качестве этапа мирного перехода к индустриальному строю, так как частная собственность лежит в основе общественного порядка, но нуждается в социальном регулировании. В результате в обществе К. Сен-Симона антагонистические классы должны исчезнуть мирным путем, а власть перейти к рабочим – тем, кто реально занят в производстве. Правительство же будет занято только экономическими вопросами, а не политическими.
В первой половине XIX в. во Франции выдвигает свой план социально-экономических изменений Шарль Фурье в работах «Теория четырех движений и всеобщих судеб», «О трех внешних единствах». Он описывает два противоположных строя. Образ несправедливого мира – «строй цивилизации», в котором царит бедность и неравенство, рабочие отрываются от средств производства, а непроизводительный класс торговцев расширяется. Идеал Ш. Фурье – «социетарный мир», «гарантизм» – «строй согласованности». Переход к нему займет всего 30 лет. Средства же, которые помогут его произвести, – это реформы, агитация и личный пример. Инициатива перемен должна прийти снизу, а не от правительства, как у Оуэна. Наилучшим типом малой социально-экономической группы Ш. Фурье называет фаланстер – дворец, где живут и работают члены фаланги (коммуны): рабочие становятся акционерами и участвуют в прибылях – собственность приобретает всеобщий характер. В таком типе общественной организации отсутствует наемный труд, руководитель избирается из числа рабочих. В 40-х гг. XIX в. в США насчитывалось около 20 тыс. таких фаланстеров.
«Строй согласованности» Ш. Фурье предполагает единство денег, языка, мер, типографских знаков; освобождение рабов, согласованное добровольно с их хозяевами, промышленное производство становится только дополнением к земледелию, отказ от уравнительности (не должна потеряться индивидуальность человека). Вместе с тем, Ш. Фурье предвидел повышение социальной роли женщины, расширение масштабов совместного проживания людей: возникновение многоквартирных домов, гостиниц, пансионатов, создание служб по коллективному выполнению услуг, общественному питанию, воспитанию детей.
Таким образом, социально-философские идеи русской революции созревали под влиянием утопических проектов социалистов-утопистов первой половины XIX в., что позволяет рассматривать их как часть всемирной истории общественных преобразований, предлагающей широкие альтернативы реформирования социальной реальности.
Октябрьская революция – переход к социализму или к государственному капитализму? Историко-философские аспекты проблемы
Куренышев А.А.
Аннотация. В статье говорится о теоретических и практических проблемах построения социализма в России после Октябрьской революции. О спорах по этому вопросу среди марксистов в связи с малочисленностью рабочего класса и преобладанием крестьянства среди населения. Делается вывод о том, что то, что объявлялось «социализмом» было на самом деле государственным капитализмом.
Ключевые слова: капитализм, социализм, государственное регулирование, планирование, крестьянство.
THE OCTOBER REVOLUTION – THE TRANSITION TO SOCIALISM OR STATE CAPITALISM? HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PROBLEM
Kuryonyshev A.A.
Abstract. The article deals with the theoretical and practical problems of building socialism in Russia after the October Revolution. On the debate on this issue among the Marxists in connection with the small number of the working class and the predominance of the peasantry among the population. It is concluded that what was declared "socialism" was in fact state capitalism.
Keywords: capitalism, socialism, state regulation, planning, peasantry.
Проблема, поставленная в заглавие доклада, очень сложна, многообразна и многопланова. В свое время за одну только попытку поставить и рассматривать ее люди попадали в заключение, а то и в расстрельные подвалы. Октябрьская революция, называвшаяся ее деятелями сначала переворотом, превратилась в «Великую Октябрьскую социалистическую революцию». Ежегодно в СССР дни 7–8 ноября отмечались как самый большой праздник страны. Как известно, и на советском уровне, и в ходе выборов в Учредительное собрание большинство населения проголосовало за списки социалистических партий: эсеров, социал-демократов большевиков и меньшевиков и т.д. Таким образом, народ сделал социалистический выбор. Возникает вопрос: а как, собственно говоря, проголосовавший за социалистов народ представлял себе этот самый социализм? И вот тут-то и начинаются всяческие коллизии.
В организации так называемого «социалистического эксперимента», закончившегося, как считают многие политики и обществоведы, крахом в 1991 г., обвиняют большевиков и персонально Ленина, фанатика, одержимого идеей мировой коммунистической революции человека. Персонификация и антропоморфизм в объяснении различных природных и социальных явлений, вообще, свойственен человечеству, особенно на ранних ступенях его развития. Однако настолько ли виновен Владимир Ильич в безудержном стремлении российских граждан к социальному равенству, национализации и социализации орудий и средств производства, природных ресурсов и культурного наследия? Так вот, и этого не хотел видеть и замечать Г.В. Плеханов, именно «низы», рабочие, крестьяне и солдаты толкали руководство к осуществлению все более и более радикальных преобразований. Крестьяне в массе своей требовали ликвидации частной земельной собственности, причем не только крупной помещичьей, но и средней и мелкой крестьян выделенцев, хуторян и отрубников. Рабочие, поскольку владельцы предприятий не только угрожали, но и кое-где реализовывали планы локаута и попросту бросали фабрики и заводы, требовали от властей национализации, огосударствления производства.
Г.В. Плеханов отрицал возможность перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую в 1917 г. Обоснованию своей позиции он посвятил ряд статей.
Статья «Буки-Аз-Ба» трактует вопрос, который в первые дни после октября так волновал демократические и интеллигентские круги, вопрос о том, «должны ли мы, революционеры, в своей практической деятельности держаться каких-нибудь безусловных принципов»54.
Его со всех концов начали упрекать в том, что он был родоначальником большевизма в России, что «аморальный» принцип относительности всех демократических принципов впервые в обиход социалистов был введен им и т.д. По этому поводу он и преподнес несколько азбучных истин эсерам и иным, поднявшим шум. Он отметил, прежде всего, что принцип, о котором идет речь, не его изобретение, а берет начало от Гегеля. Научный социализм унаследовал от него этот принцип, он также не знает «ничего абсолютного, ничего безусловного, кроме беспристрастной смерти или вечного возрождения. Он детально и последовательно развивает то положение, что все зависит от обстоятельства времени и места»55.
Научный социализм и на правила политической тактики «отказывается смотреть, как на безусловные. Он считает наилучшими те из них, которые вернее других ведут к цели; и он отбрасывает, как негодную ветошь, тактические и политические правила, ставшие нецелесообразными. Нецелесообразность – вот единственный критерий его в вопросах политики и тактики»56.
«Не человек для субботы, а суббота для человека. Переведите это положение на язык политики, и оно будет гласить: не революция для торжества тех или других тактических правил, а тактические правила для торжества революции. Кто хорошо поймет это положение, кто станет руководствоваться им во всех своих тактических соображениях, тот – и только тот – покажет себя истинным революционером»57. Плеханов в этой же статье отказывается признать большевиков за своих прямых последователей. Однако всякий беспристрастный читатель его статьи увидит, что большевики именно тем и показали себя всему миру хорошими «истинными революционерами», что достаточно хорошо усвоили идеи Г.В. Плеханова.
В предисловии к другой реферируемой брошюре Г.В. Плеханова г. Фердман (все тот же Арзаев) делает попытку доказать, что Г.В. Плеханов никогда не был сторонником «…классового над народным и национальным» (это выражение эсера М. Вишняка, а известно, как невразумительна всегда речь эсера), что он отродясь был за коалицию с буржуазией и в экстазе заявляет, что никто с подобной глубиной не обосновывал «национальную идею», как Плеханов.
Г.В. Плеханов писал в своих последних статьях: «наш рабочий класс еще далеко не может, с пользой для себя и для страны, взять в свои руки всю полноту политической власти. Навязать ему такую власть – значит толкать его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы в то же время величайшим несчастьем и для всей России…
В населении нашего государства пролетариат составляет не большинство, а меньшинство. А между тем он мог бы с успехом практиковать диктатуру только в том случае, если бы составлял большинство. Этого не станет оспаривать ни один серьезный социалист.
Правда, рабочий класс может рассчитывать на поддержку со стороны крестьян, из которых до сих пор состоит наибольшая часть населения России. Но крестьянству нужна земля, в замене капиталистического строя социалистическим оно не нуждается. Больше того: хозяйственная деятельность крестьян, в руки которых перейдет помещичья земля, будет направлена не в сторону социализма, а в сторону капитализма»58. Возникает вопрос: удалось ли большевикам во главе с Лениным «вырулить» с этой торной дороги развития крестьянского хозяйства? И что они для этого делали?
Выступая на съезде против прожектеров, выдвигавших декларативные, широковещательные проекты либо немедленного строительства социализма в деревне через совхозы, либо немедленной коллективизации сельского хозяйства, Ленин указывал, что в конкретных условиях 1920–1921 гг. в деле восстановления сельского хозяйства надо опираться на единоличного крестьянина: «Он таков и в ближайшее время иным не будет… От общих рассуждений надо перейти к тому, как сделать первый и практический шаг обязательно этой весной и ни в коем случае не позже, и только такая постановка вопроса будет деловая»59.
Основной идеей при разработке закона «О мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства» являлась мысль о перенесении методов государственного регулирования из области промышленного производства в область мелкотоварного крестьянского хозяйства. Если в годы гражданской войны государство могло через продразвёрстку регулировать лишь заготовку сельскохозяйственных продуктов, то теперь оно подходило к регулированию сельскохозяйственного производства, ставя перед сельским хозяйством конкретные задачи: обработать и засеять определенные посевные площади, провести минимальные агрономические мероприятия, обеспечить определенную урожайность. В свою очередь, государство принимало на себя ряд обязательств по организации помощи крестьянству в проведении посевной кампании: «Признавая сельское хозяйство важнейшей отраслью хозяйства Республики, возлагая на все органы Советской власти обязанность усиленной всесторонней помощи крестьянскому земледелию, рабоче-крестьянская власть объявляет в то же время правильное ведение земледельческого хозяйства великой государственной обязанностью крестьянского населения»60.
Важно отметить, что идея образования посевкомов выдвигалась и широко поддерживалась местными работниками и организациями. Например, в письме уржумскому делегату съезда от уржумской партийной организации писалось: «Особенно важный и серьезный вопрос затронут о комитетах содействия»61. А в тезисах, утвержденных уржумским партийным собранием, отмечалось: «Для вовлечения в работу широких слоев населения создать комитеты содействия… в задачи, которых поставить проведение государственного плана засева полей»62.
Посевкомам вменялось в обязанность организовать широкую помощь крестьянскому хозяйству. Они должны были привести в образцовый порядок все учреждения, оказывавшие крестьянам техническую и организационную помощь: ремонтные мастерские, прокатные пункты, мельницы и т.д. Они должны были организовать и правильное использование усовершенствованного сельскохозяйственного инвентаря (косилки, жатки) и переброску на посевную и уборочную кампании трудармейских и красноармейских частей. Им же вменялась в обязанность широкая сельскохозяйственная пропаганда63. Съезд поручил СНК дать указания всем хозяйственным наркоматам и ведомствам об организации помощи сельскому хозяйству64.
Таким образом, государство в первых же пунктах закона брало на себя ряд обязательств в оказании помощи крестьянскому хозяйству, как инвентарем, так и рабочей силой в размерах, в каких это было возможно в условиях разрухи 1920–1921 гг. В то же время государство брало в свои руки, как уже упоминалось, руководство посевной кампанией. Теперь определение размера площадей для посева и характер засева перестали быть делом отдельных крестьян. «В целях поддержания мерами государственной власти, – писалось в законе, – стремления лучших хозяев расширить площади засева, объявить государственной повинностью обсеменение площади земли, устанавливаемой государственным планом посева»65.
На первом этапе перехода к мирной работе государство осуществляло еще целый ряд мероприятий методами военного коммунизма. Засев крестьянами своего поля объявлялся «государственной повинностью» наравне с повинностью гужевой и трудовой. Военно-коммунистические принципы были положены и в основу определения характера тех культур, которые каждый крестьянин должен высевать. Через систему посевкомов и селькомов государство обязывало каждого крестьянина сеять определенные сельскохозяйственные культуры.
Впервые государство подошло и к принятию принципа планирования посевных площадей и определению характера посевов, поручив составление общероссийских планов посевной кампании Наркомзему, а на местах – местным посевкомам. Большое внимание было обращено на обеспечение посевных площадей семенным фондом. Перед государством встала задача: во что бы то ни стало сохранить семенной фонд. В связи с голодом была опасность, что семенной фонд будет съеден. И В.И. Ленин, предостерегая от этого, говорил: «Наша цель состоит в том, чтобы количество семян, необходимое для полного обсеменения, взять под охрану государства»66.
Сохранение находившихся у крестьян на руках семенных фондов становилось делом государства, обеспечивавшего сохранение этих семян совместно с крестьянами. «Объявить запасы семян, находящиеся у земледельцев, – устанавливал закон в параграфе 9, – в потребном для хозяйства количестве, неприкосновенным семенным фондом и принять меры к охране семенного фонда и к внутригубернскому распределению семян»67. Закон намечал целый ряд мер по сохранению семян, как то: сдача в общественные амбары в мешках владельцев и с их пометкой, объявление семян, находящихся у частных владельцев, неприкосновенными, при условии их личной ответственности за сохранение семенного фонда. Интересно отметить, что целый ряд предусмотренных законом мер по охране семян являлся обобщением уже имевшегося на местах опыта. Так, один из делегатов съезда, курский крестьянин, рассказывал в кулуарах съезда: «У нас по-хорошему устроилось, умудрил господь, выделили амбар, и давай в него семена возить… потом амбар на два замочка с печатью, один ключ у нас, другой у исполкома, они туда без нас не могут попасть, и мы не сумеем»68.
Характеризуя связь закона с установившейся практикой, Ленин говорил о том, что закон исходит из местного опыта, и на местах это уже почувствовали. Разрабатывая и утверждая проект закона, съезд не ограничился установлением государственного руководства засевом полей и сохранением семян. Он вынес решение о необходимости государственного регулирования технологии сельскохозяйственного производства, поручив посевкомам под руководством и контролем Наркомзема разрабатывать обязательные правила основных приемов обработки полей и улучшения лугов, а также приемов посева и методов сохранения плодородия почвы.



