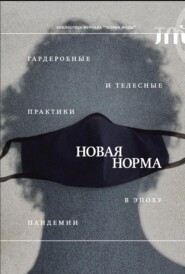
Полная версия:
«Новая норма». Гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии
Эльзе Скьольд. Давайте сгладим кривую! Локальный ответ на глобальный кризис образования
ВведениеВ марте 2020 года в социальных сетях появились анимированные модели под заголовком «Сгладим кривую!», посвященные рекомендациям в период пандемии COVID-19. Они показывали, как соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и ношение масок могут помешать распространению вируса, снизив нагрузку на медицинские учреждения и позволив обществу вернуться к обычной жизни. Вскоре появилась еще одна модель с таким же заголовком, но на этот раз иллюстрирующая изменение климата. Имелось в виду, что, если заботиться об окружающей среде, то появится шанс спасти планету от катастрофы, а значит, и человечество от гибели.
Индустрия моды принадлежит к числу самых вредных для окружающей среды отраслей в мире; на нее одну приходится 10 процентов всех выбросов углекислого газа (Ellen MacArthur Foundation 2017). Кроме того, пандемия коронавируса показала, что сектор моды особенно уязвим в плане как своей экономической модели, так и ответственности, которую он несет перед работниками модной индустрии и планетой в целом. Поэтому важно отметить происходящие в этой отрасли сдвиги и дискуссии, связанные с устойчивым развитием и поисками новых рабочих стратегий, и помочь ей найти прогрессивное решение. Здесь, в Дании, многие модные бренды пришли в отчаяние, когда из стран-производителей начали прибывать их заказы на весенне-летний сезон 2020 года. Помещения магазинов были закрыты, покупатели сидели в самоизоляции в домашней одежде, ходить им было некуда, и непроданные вещи продолжали накапливаться. В одну только компанию Bestseller, самую крупную в датской модной индустрии, еженедельно привозили шесть миллионов вещей, главным образом из стран Дальнего Востока, и ящики с одеждой складывали в штаб-квартире фирмы в Ютландии (Dalgaard 2020). Крупнейшая датская торговая организация «Датская мода и текстиль» (Dansk Mode & Textil, сокращенно DM&T) откликнулась на происходящее публикацией, в которой утверждалось, что коронавирус может стать катализатором развития индустрии в направлении большей экологичности:
Сегодня День Земли, дружески напоминающий, что, как бы «корона» ни омрачала нашу жизнь, нам стоит побороться за климат… как известно из истории, трудные времена стимулируют перемены. <…> «Корона» ясно показала, что потребителям нужен ответственный бизнес… вот почему устойчивое развитие имеет огромное значение для индустрии моды и вот почему оно – в гораздо большей степени, чем раньше, – должно выйти на первый план в нашей сегодняшней стратегической повестке (Lindgaard 2020).
В то же время правительство Дании утвердило меры финансовой поддержки различных малых и средних предприятий, чтобы помочь им пережить тяжелый удар, который нанесли экономике коронавирусные ограничения. DM&T вместе с другими организациями модной индустрии подписала открытое письмо, адресованное датскому правительству. В письме, в частности, говорилось:
За полтора месяца рынок розничной торговли и его поставщики, будь то производители одежды, текстиля, спортивных товаров или предметов интерьера, понесли огромные убытки, которые привели к катастрофическим последствиям. Среди поставщиков и ретейлеров мы наблюдаем волну массовых закрытий и банкротств. То, что мы видим, – только начало. Дальше будет хуже. Если не начать действовать прямо сейчас, нас ожидает такое мрачное будущее, в сравнении с которым бледнеет экономический кризис [2008 года]… В магазинах на вешалках и полках ожидает покупателей одежда нового сезона. На складах производителей аксессуаров сложены товары. Заказанная ранее и оплаченная продукция находится на пути в Данию. Если мы не продадим свои товары сейчас, они не будут стоить ничего. Таковы реалии отрасли, живущей за счет ежесезонного обновления (DM&T 2020).
В ответ на это письмо один из самых известных модных обозревателей в Дании написал в газете Politiken: «COVID-19 показал, что мода входит в сферу экономики впечатлений. Проходит лишь несколько недель – и платье уже ничего не стоит. Такую систему не надо спасать. Ее надо менять» (Skarum 2020). По этим высказываниям видно, как пандемия коронавируса усилила начавшиеся еще раньше споры о переходе модной индустрии к более экологичной модели, влияние которого на отрасль проявится еще очень нескоро, – об этом писал и Forbes (Roberts-Islam 2020).
В это самое время я сидела в самоизоляции у себя дома, обдумывая задачу, которую поставила передо мной администрация нашего вуза: сформулировать свое видение новой магистерской программы по моде и текстилю, предполагавшей последовательное внедрение концепции устойчивого развития. Сделать это нужно было с опорой на традиции датского дизайна, основы обучения в нашем вузе, но при этом учитывать глобальную перспективу. Чувствуя, как из‐за пандемии мысли беспорядочным вихрем гудят у меня в голове, я села обдумывать программу, которая могла бы помочь нам вывести модную индустрию из глубокого и хронического кризиса и решить насущные проблемы. В таких обстоятельствах и появилась новая программа, которую я решила назвать «Мода, одежда, ткани: новые пространства для изменений». Программу сразу же утвердили, и сейчас, работая над этой статьей, я готовлюсь к началу семестра и встрече с новыми студентами. В статье я расскажу, какие идеи легли в основу этой программы, почему она нужна, как связана с пандемией и как локальные образовательные проекты могут способствовать решению глобальных проблем модной индустрии.
Локальный ответ на глобальный кризисМысль, что глобальный климатический кризис требует локальной реакции, нельзя назвать новой. Кейт Флетчер в своих работах подробно рассматривала перспективы такой реакции. В последние годы введенные ею понятия «экосистемы моды» и «локализм» особенно актуальны, так как исследователь делает акцент на развитии новых систем и ресурсных потоков, привязанных к локальным сообществам, локальной природе, индивидуальным привычкам в одежде, за счет таких взаимосвязанных практик, как ношение, штопка, уход, починка, стирка, глаженье и так далее (fashionecologies.org). К. Флетчер последовательно развивает идеи, сопряженные с концепцией медленной моды, которую исследователь сформулировала по аналогии с медленной едой (slow food). Это движение в пищевой промышленности, сторонники которого выступают за локальное, ориентированное на местный рынок производство, выстраивание сплоченного сообщества, повышение качества продукции за счет уменьшения ее количества. Таким образом возможно сократить объем отходов (Fletcher 2008).
Идея медленной моды противостоит развитию модной индустрии с конца 1980‐х годов, когда компании начали перемещать производство в другие регионы, прежде всего в дальневосточные страны. Это решение, как указывает Анджела Макробби, привело к еще большей стандартизации одежды и утрате навыков и знаний на Западе. В исследовании, посвященном перспективным лондонским дизайнерам эпохи «новой экономики» в Великобритании в 1990‐е годы, А. Макробби отметила плачевный отрыв знаний о технических аспектах изготовления одежды от более творческих процессов, в результате которого дизайнер превратился в подобие знаменитого художника, не обладающего при этом достаточными практическими навыками (McRobbie 1998/2000). По словам Отто фон Буша, эта перемена не привела, как можно было ожидать, к большему разнообразию и расширению ассортимента одежды:
…«Демократичная» мода, то есть мода общедоступная и эгалитарная, – оксюморон, невозможный и ненужный: она так же безлика, как если бы модно было одеваться одинаково. На наших глазах возник массовый и однотипный модный «фастфуд», не приносящий удовлетворения, такой же банальный и незапоминающийся, как еда из «Макдоналдса» (Busch 2008: 32).
Феномен стандартизированной, одинаковой одежды массового производства получил название быстрой моды (Black 2013), которое относится как к товарам определенного типа (таким, которые следуют модным тенденциям, а не задают их), так и к самой бизнес-модели (линейной, основанной на быстром и массовом товарообороте) и сопряженному с ней стилю мышления (допускающему эксплуатацию природных ресурсов и рабочей силы ради сокращения производственных расходов). Несмотря на климатический кризис и споры об устойчивом развитии, популярность таких установок и моделей производства только возросла. По данным фонда Эллен Макартур, за последние пятнадцать лет потребление одежды в мире выросло на 60 процентов, срок службы одной вещи сократился вдвое, а утилизация текстильных изделий создает огромные проблемы. Сегодня потребители выбрасывают одежду очень скоро после покупки, а безопасного для окружающей среды решения по ее дальнейшему использованию фактически не существует (Ellen MacArthur Foundation 2017). Подведем итоги: одежды производится все больше, ее качество ухудшается, носят ее очень недолго, затем она пополняет склад текстильных отходов. Как свидетельствуют приведенные выше высказывания представителей датской модной индустрии, возникновение экономики впечатлений в 1990‐е годы привело к тому, что сегодня одежда воспринимается просто как реквизит, нужный, чтобы получить впечатления от похода по магазинам, а технические навыки ее изготовления оторваны от сезонных трендов, которым и уделяется исключительное внимание. Все это многие представители индустрии осознали с началом пандемии, когда миллионы изделий в одночасье утратили всякую ценность – просто потому что вышли из моды.
Сейчас мы имеем дело с последствиями локдауна и по-прежнему не знаем, что будет дальше и как скоро мир сможет хоть в какой-то мере вернуться к нормальной жизни. По крайней мере в некоторых сегментах модной индустрии происходит явная переоценка ценностей, для чего есть еще ряд причин. Во-первых, очевидной стала непрочность экономической модели, лежащей в основе модной индустрии: одного-двух месяцев локдауна оказалось достаточно, чтобы поставить под угрозу само ее существование. Во-вторых, споры об устойчивом развитии в период пандемии только усилились, потому что многие сравнивают климатический кризис с коронавирусом и призывают к немедленным действиям. В то же время, как показывают результаты опросов, потребители готовы не переплачивать за так называемую экологичную одежду, а только платить за качество, которое должно соответствовать стоимости (см., например: GFA 2019). В-третьих, в период локдауна стало ясно, в каком шатком положении оказываются компании, которые перенесли производство в дальнее зарубежье: в критических обстоятельствах, таких как пандемия, отдельно взятый модный бренд слабо контролирует ситуацию и мало что может сделать для ее изменения. В заключение можно сказать, что нам нужна индустрия моды, которая а) вместо ежесезонной смены тенденций увеличивает срок сбыта предметов одежды на более длительный период; б) направлена на анализ того, что покупатели подразумевают под «качеством» и «качеством по доступной цене», и создание менее крупных и более адресных коллекций, отвечающих их запросам; в) стремится использовать возможности местного производства, чтобы минимизировать риск и сохранять контроль над ситуацией в критических обстоятельствах. За последние десять лет проведено немало исследований, авторы которых пытались ответить на перечисленные вопросы, на чем я бы хотела остановиться в следующем разделе.
Долговечный дизайн и перспектива гардеробаКак выстроить систему моды, не зависящую от сезонных трендов? Что покупатели понимают под качеством и разумной ценой, когда речь идет об одежде? Как наладить локальное производство? Эти темы много раз становились предметом обсуждения в рамках направления долговечный дизайн, за которым стоит ряд подходов и принципов, сформулированных с разных научных позиций. Для начала скажу, как я понимаю долговечный дизайн, – моя трактовка совпадает с трактовкой Карен Мари Хаслинг и Уллы Ребилль и их «компасом долговечности», определение которого было сформулировано в ходе совместного исследовательского проекта (Skjold et al. 2018; Hasling & Ræbild 2017). Это определение включает три группы параметров: 1) техническая долговечность, то есть материальные свойства, такие как прочность ткани, крой, требования к уходу и так далее; 2) функциональная долговечность, связанная с практическими и психологическими потребностями, в том числе обстоятельствами (типы одежды, которые нужны в гардеробе для разных поводов и ситуаций), изменениями параметров тела (потеря веса, набранный вес, старение и так далее) или модными тенденциями; 3) эмоциональная долговечность, которая определяется набором параметров, стимулирующих более сильную привязанность к некоторым предметам одежды. Как я уже писала в других работах, при таких установках в центре внимания оказываются индивидуальные привычки, связанные с одеждой, а вопрос, что именно модно в тот или иной период, отодвигается на периферию (Skjold 2014). Это не перспектива моды, а перспектива гардероба: на первый план выходят конкретные практики и потребности, мечты и ожидания владельца одежды (Skjold 2017). Кроме того, акцент делается не на потреблении, а на использовании, поэтому представители этого направления исследований воспринимают людей скорее как пользователей, чем как потребителей. Происходит парадигматический сдвиг, во многом определяющий современные подходы к проблеме моды и устойчивого развития. Наконец, предметом интереса в рамках этого подхода становятся прежде всего практики использования, или, цитируя К. Флетчер, «искусство использования» (Fletcher 2016), которое предполагает формирование оценки и идентичности в процессе одевания и других форм взаимодействия с одеждой (стирка, уход, починка, штопка и тому подобное).
В русле гардеробных исследований ряд теоретиков, изучающих костюм (К. Флетчер и я сама), на протяжении последних десяти с лишним лет изучали практики использования одежды и критерии оценки ее владельцами. Как показывают эти исследования, вопрос качества для многих людей намного важнее, чем модные тенденции конкретного периода. Анализируя практики использования одежды, ученые рассматривают также целый ряд вопросов. Среди них комплекс этических проблем (см. работу Карен Транберг Хансен о рынке подержанной одежды в Замбии: Hansen 2000/03). Ученые исследуют старение и связанные с ним изменения стиля и параметров тела (Townsend et al. 2016; Laitala et al. 2009). Они размышляют о смешении стилей в среде иммигрантов (Skjold 2020; Skjold et al. 2020), в том числе о выработке стиля и его адаптации к местным реалиям (Fletcher 2016). В центре внимания исследователей вопросы гендера (Bjerck 2017; Warkander 2013) и многие другие (см.: Fletcher & Klepp 2017). Особенность гардеробных исследований в том, что они отталкиваются от реальных предметов одежды, хранящихся в домах людей (их можно увидеть на выставках частных коллекций), и выявляют связи между сарториальными практиками прошлого, настоящего и будущего. Исследователи анализируют повседневные решения людей, какую одежду носить, а какую нет. Первыми к этой теме обратились, например, Ингун Клепп (Klepp 2001), Эли Гай, Эйлин Грин и Мора Бэним (Guy et al. 2001), а позже – Софи Вудворд (Woodward 2007). В результате мы получаем конкретные данные о том, что представляет собой любимая одежда, которую люди надевают снова и снова в течение долгого времени, равно как и о типичных неудачных покупках, пылящихся в гардеробе, после чего зачастую очень скоро оказывающихся на свалке.
Возвращаясь к тому, о чем я говорила во вводной части статьи, гардеробные исследования позволяют понять, как сами владельцы одежды понимают качество и «разумную стоимость». Как правило, они имеют в виду дизайн, который отвечает их представлениям о гендерной идентичности, этнической принадлежности, культуре и социуме и соответствует их индивидуальным вкусовым предпочтениям. Если проанализировать, как развивалась система моды приблизительно последние сто пятьдесят лет, можно увидеть нечто прямо противоположное: она стремится прежде всего создавать образы и модели, формирующие идеальную женщину (парижанку) и заставляющие всех остальных женщин мечтать приблизиться к этому эталону, в погоне за ним пытаясь улучшить свою наружность, приодеться и накупить таких же вещей (Rocamora 2009). Как я уже писала, в такой ситуации все остальные оказываются в роли «другого» в мире моды – со своими несовершенными телами, бытовыми практическими потребностями и запросами, которые не всегда вписываются в образ «облаченных в мечты», если воспользоваться метафорой Элизабет Уилсон (Skjold 2015). Хейзел Кларк в своей недавней работе размышляет как раз в этом направлении, показывая, что изучение особенностей использования одежды помогает излечить нынешние недуги модной индустрии за счет большего разнообразия женского модного гардероба (Clark 2019). Однако другие специалисты, например Кэт Сарк, выказывают иные мнения. Исследователь в настоящее время разрабатывает идеи и педагогические методики, направленные на деколонизацию системы моды, в своем теперешнем виде почти не оставляющей человеку выбора в плане возраста, гендера, расы и других параметров, по которым требуется соответствовать (западному) модному идеалу (Niessen 2020a).
Датский контекст: возрождение смысла «демократичной моды»В датском контексте тезис о необходимости с особым вниманием относиться к индивидуальным потребностям обладает специфическими коннотациями. Он связан как с моделями социального и экономического устройства Дании как государства, для которого приоритетом является благополучие граждан, так и с традициями датского дизайна. Датское государство всеобщего благосостояния сформировалось после экономического кризиса 1920‐х годов, а его отправной точкой считается «соглашение на Канслергадэ» (Kanslergadeforliget), заключенное 29–30 января 1933 года во время совещания представителей разных политических партий, составлявших на тот момент правительство Дании. Соглашение предполагало масштабную социальную реформу, которая должна была гарантировать работникам финансовую помощь в кризисные времена, обеспечить им нормальные рабочие условия, открыть малоимущим гражданам доступ к медицинской помощи и уходу, а также дать им право на бесплатное посещение государственных школ и бесплатное образование и так далее (Nissen 2010). Хотя эти планы до сих пор не реализованы полностью, они легли в основу современной датской системы социального обеспечения, построенной на принципе доступа к равным возможностям для всех. Дания – относительно небольшая страна с населением около шести миллионов человек и площадью 42 933 квадратных километра, но по уровню жизни ее общество достаточно однородно, численность сверхбогатой элиты минимальна. Все это влияет и на модную индустрию, которая состоит в основном из предприятий малого и среднего бизнеса, за исключением немногочисленных крупных компаний, таких как Bestseller, IC Company или DK Company, которые воспринимаются скорее не как дизайнерские, а как коммерческие бренды по той простой причине, что большая часть населения Дании принадлежит к среднему классу (Tran 2008). Датскую модную индустрию можно назвать относительно демократичной в том смысле, о котором пишет О. фон Буш: попросту говоря, большинство людей может позволить себе такую одежду. Но, как справедливо замечает исследователь, это вовсе не означает, что она приобретает ценность в процессе использования. Это означает лишь, что она дешевая или дешевле другой одежды за счет производства за рубежом и массовой стандартизации.
Однако, говоря о датских традициях дизайна и направлениях исследований, посвященных дизайну, важно учитывать все смысловые оттенки словосочетания «демократичная мода» с точки зрения уже упомянутых представлений о гардеробе, практик использования одежды, деколонизации и пересмотра современных ценностей системы моды. Как полагают Ларс Дюбдаль (Dybdahl 2006) и Томас Диксон (Dickson 2006), появление мебели в стиле датского модерна было продиктовано модернистскими идеалами демократизации дизайна посредством стандартизированного массового производства, благодаря которому качественный дизайн смог бы позволить себе каждый. Таков был утопический идеал XX столетия – процветание и благополучие не только для богатой элиты. Если говорить о Дании, в качестве наглядного примера можно привести FDB Furniture. FDB представлял собой кооператив торговцев бакалейными товарами, отделения которого существовали на всей территории Дании и который до сих пор функционирует под названием Coop. Чтобы открыть своим покупателям доступ к качественным и недорогим предметам интерьера, компания в 1950‐е и 1960‐е годы сотрудничала с датскими дизайнерами мебели. Мебель создавалась для новых поколений, переезжавших в современные дома в предместьях крупных городов или живших в новых рассчитанных на одну семью домах, которые с 1960‐х годов массово строились по всей Дании. В основе ее дизайна лежало понимание, что людям хотелось построить одновременно красивый и функциональный дом, который, как правило, покупали в рассрочку и на который копили всю жизнь. Эта инициатива интересна тем, что наглядно иллюстрирует идеи, которые позже, в начале 1970‐х годов, привлекли внимание датских и шведских исследователей, занимающихся дизайном: они стремились изучать прежде всего практики использования, от которых могут отталкиваться дизайнеры. Так, датский исследователь Пелле Эн анализировал практики использования на заводе Carlsberg, где он изучал быт и повседневность работников конвейера, чтобы улучшить их условия труда, а следовательно, и повысить качество их работы (Schuler & Namioka 1993). Анализ практик использования, который привел к выработке новых методов работы или нового типа дизайна, ориентированного на пользователя, получил название «вовлеченного проектирования». Это направление привнесло в область дизайна новый подход – ориентированную на пользователя и предполагающую его участие разработку дизайна, известную как «пользовательская эмпатия» (Kimbell 2012; Sanders & Stappers 2008).
Эти подходы получили полноценное развитие в архитектуре и многих сегментах дизайна, но в сфере дизайна одежды они на сегодняшний день развиты недостаточно. В результате сегодня производится много однотипной одежды: она по большей части никому не идет, и в процессе ношения у человека не возникает к ней никакой привязанности, вот почему ее так часто в скором времени выбрасывают или вообще не носят. Если говорить только о покрое и размере, опрос, проведенный в скандинавских странах, показал, что около 60 процентов покупателей с трудом могут найти одежду, которая хорошо бы на них сидела (Laitala et al. 2009). Кроме того, один датский исследователь в своей диссертации недавно сопоставил стандартные силуэты и размеры женской одежды с полученными путем сканирования параметрами тела более чем трехсот женщин и пришел к выводу, что менее 10 процентов производимой сегодня одежды подходят хотя бы одной из них (Terkildsen 2020). Как продемонстрировали авторы другого исследования, не меньше проблем вызывают изменения параметров тела, связанные с возрастом, потому что дизайн одежды в целом не рассчитан на стареющее тело (Townsend et al. 2016). Из-за того, что вещи плохо сидят или не подходят по размеру, покупатели часто возвращают их: согласно статистике, в 2019 году 58 процентов купленной одежды вернули в магазин именно по этой причине (FDIH 2019). Исследователи, анализирующие использование одежды, тоже указывали, что неудачный силуэт или размер часто заставляет человек перестать носить вещь или вообще ни разу не надеть ее (Fletcher & Klepp 2017). Авторы этих исследований отмечают лишь несоответствие кроя и размера реальным параметрам тел покупателей. Но что касается стилистических критериев, связанных с расовой принадлежностью, гендером, культурным контекстом, старением и так далее, выбор одежды сегодня очень ограничен, а ее дизайн не учитывает многие категории людей. Об этом говорит, в частности, Кэт Сарк, опираясь на работу Линды Уэлтерс и Эбби Лиллетун (Welters & Lillethun 2018): «…Следует пересмотреть взгляд на моду и ее историю, которая началась отнюдь не в Европе эпохи Возрождения. Западная элита и общества экономически развитых стран не составляют ядро моды – ее история гораздо более разнообразна, противоречива и вбирает в себя множество культур» (Niessen 2020b: 3).
В свете сказанного, как мне кажется, пришло время возродить смысл демократичной моды, чтобы мода распространялась естественным образом, стала открытой для разных групп и многообразной, перестала быть множеством однотипных моделей, исключающих какие бы то ни было вариации. Если сосредоточиться в первую очередь на локальных представлениях об одежде и нормах, опираясь на подходы, ориентированные на пользователя, возможно, получится «сгладить кривую» моды, пересмотрев саму суть этого явления и поняв, что оно означает для владельцев одежды. Тогда, вероятно, получится производить меньше одежды, но разрабатывать более качественный дизайн. В этом плане я следую призыву Линды Гроуз, которая заявляет, что пора отказаться от господствующей культуры потребления с ее ограниченностью и склонностью к эксплуатации. Необходимо создать новые «пространства для изменений», где «масштабы рассчитывают так, чтобы они соответствовали месту (то есть масштабы должны быть разумными), точнее, месту, условиям и экологическим требованиям» (Grose 2019: 298). Именно на таком фундаменте строится новая магистерская программа Школы дизайна при Датской королевской академии изящных искусств. Цель программы – вытеснить существующее на сегодняшний день ограниченное, враждебное к отдельным группам и сопряженное с эксплуатацией понимание моды и заменить его другим, предполагающим большее разнообразие, ориентацию на пользователя, заботу об экологии и сосуществование разных групп.



