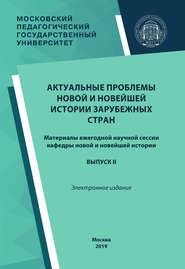 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран. Выпуск II
34. Die todten Seelen. Ein satyrisch-komisches Zeitgemälde / Aus dem Russischen übertr. Ph. Löbenstein. Leipzig: Reclam, 1846.
35. Gordon A. Mason, John (1706-1763) // Dictionary of National Biography, 1885-1900. Vol. 36. [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Mason,_John_%281706-1763%29_%28DNB00%29 (дата обращения: 02.10.2017).
36. Russische Novellen / Nach L. Viardot übertr. von H. Bode. Bd. 1-2. Leipzig: Klemm, 1846.
37. The Inspector. Transl. by T. Hart-Davies. Calcutta: Thacker Spink, 1890.
Император Николай I vs Франция Луи-Филиппа (по дипломатической переписке барона Проспера де Баранта)
Таньшина Н.П.,доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новой и новейшей истории МПГУ, профессор кафедры Всеобщей истории ИОН РАНХиГСАннотация. Статья посвящена реконструкции отношения императора Николая I к Франции в годы Июльской монархии и лично королю Луи-Филиппу на основе анализа дипломатической корреспонденции посла Франции в России в 1835-1841 гг. барона П. де Баранта. Подчеркивая негативный настрой Николая относительно «фальшивой» Июльской монархии и короля-узурпатора Луи-Филиппа, Барант неизменно отмечал отсутствие неприязни к Франции в русском обществе и стремление русских к нормализации отношений с Францией.
Ключевые слова : император Николай I, барон Проспер де Барант, король Луи-Филипп Орлеанский, Июльская монархия, русско-французские отношения.
Отношения между Россией и Францией периода Июльской монархии (1830-1848) были весьма сложными, что было связано с резким неприятием императором Николаем I режима, рожденного Июльской революцией 1830 г. во главе с «королем баррикад» Луи-Филиппом Орлеанским. Царь всю свою жизнь считал его «узурпатором» престола, «похитившим» корону у малолетнего герцога Бордоского, внука Карла Х. В свою очередь французское общественное мнение после Июльской революции было настроено против России; либералы-орлеанисты, пришедшие к власти, видели в императоре грозного противника. Николая на Западе тогда сравнивали с Атиллой, а русских – с гуннами, готовыми заполонить Европу. Особенно репутацию Николая подорвало подавление Польского восстания в 1831 г.
В этих непростых условиях французские дипломаты в Санкт-Петербурге чувствовали себя, говоря словами академика Е.В. Тарле, «как во враждебном стане». Столичная аристократия во главе с салоном супруги вице-канцлера влиятельной графини М.Д. Нессельроде, сообразно с политикой императора, относились к французским представителям с «ледяной вежливостью»125.
11 сентября 1835 г. на пост посла Франции в Российской империи вместо маршала Н.-Ж. Мэзона был назначен штатский человек, барон Проспер де Барант, литератор и историк, администратор наполеоновской эпохи, политик, известный своими умеренно-либеральными взглядами. Он только что вернулся из Турина, где занимал пост посла при короле Сардинии.
Глава французского кабинета и министр иностранных дел герцог де ЛВ. Брой 16 октября 1835 г. направил Баранту подробную инструкцию о состоянии французско-русских отношений. Подчеркивая сложность возложенной на посла миссии, де Брой писал: «Вам предстоит отстаивать интересы короля при дворе, отношения которого с Францией кардинальным образом изменились после Июльской революции»126. В этих обстоятельствах положение посла короля Луи-Филиппа в российской столице представлялось де Брою весьма непростым. По мнению де Броя, оно осложнялось тем, что поведение и политические предпочтения столичного общества зависели от воли государя. Де Брой писал: «Нет никаких сомнений, что чувства, испытываемые к нам императором Николаем, являются такими же, какими они были три года назад»127.
Именно личность императора Николая привлекала главное внимание Баранта. Он прекрасно понимал, что именно к государю сходились все рычаги управления, именно он персонифицировал власть как таковую, именно его негативный настрой к Франции Луи-Филиппа препятствовал нормализации двусторонних отношений. Как же относился Николай Павлович к режиму Июльской монархии, если судить по дипломатическим донесения Баранта? И как Барант характеризовал российского императора?
Как администратор и дипломат Барант, конечно, был подготовлен к службе в России, хотя многое в нашей стране его поражало. В одном из писем герцогу де Брою он дал такую оценку своим донесениям: «Мои письма – это разговор, а не поток документов»128. В то же время, посол должен был быть предельная осторожным с своих оценках, поскольку переписка Баранта, как и других иностранцев, подвергалась перлюстрации. Император читал его письма, даже переписку с женой»129.
Первая официальная депеша барона Баранта главе кабинета герцогу де Брою датируется 12 января 1836 г. Посол доносил, что 10 января он вручил верительные грамоты Николаю I. Барант так описывал эту встречу: «… едва я вошел, как сразу оказался рядом с ним. Государь тут же обратился ко мне в совершенно непринужденной и в высшей степени любезной манере… Разговор начался с обмена любезностями… затем мы поговорили о моей карьере, о префектуре в Вандее, о моей аудиторской деятельности. Разговор шел по его сценарию и именно так, как он этого желал…»130.
Прекрасно зная о том, что государь избегал в разговорах с дипломатами упоминать даже имя французского короля, дипломат попытался изменить ситуацию. Тем более, что царь в ходе беседы заметил, что Европа была обязана именно королю Луи-Филиппу сохранением мира в Европе. Николай говорил о «трудной ноше, которую король взвалил на себя», о его успехах и его мудрости. По словам государя, после революции 1830 г. ситуация во Франции несколько стабилизировалась, однако в целом он сомневался относительно прочности режима, имеющего революционное происхождение131.
Памятуя о трепетном отношении Николая к армии и военному делу, Барант решил перевести разговор на действия французских войск в Алжире, в районе Маскары. В этой операции участвовал старший сын короля и наследник престола герцог Фердинанд Орлеанский. Однако Николай лишь сухо ответил: «Вы превосходно организовали и победоносно завершили военную операцию в Маскаре. […] Маршал Клозель – очень умный и способный военный»132. Маршал Клозель, генерал-губернатор Алжира, действительно, был прекрасным военным и управленцем, однако посол хотел услышать совсем другое имя.
В этой же беседе Николай I изложил свое понимание основ современной дипломатии. Он объяснил дипломату, почему в 1834 г. отозвал из Парижа графа Шарля-Андре Поццо ди Борго, который с 1814 г. возглавлял посольство России во Франции. Государь сказал Баранту: «Это дипломат старой школы; я не нуждаюсь в его изворотливости и проницательности. Мы не смогли услышать друг друга […] Я не выношу его манеру поведения». Барант попытался защитить гордого корсиканца, отметив, что он превосходно знал Францию. «Францию – да, Россию – вовсе нет. Он провел здесь всего четыре месяца. Это я заставил его приехать, чтобы он хоть немного узнал Россию и меня. И тогда я абсолютно убедился, что мы никогда не поймем друг друга»133. Эти слова Николая I позволяют сделать вывод о политических принципах, которыми руководствовался государь, а также проясняет вопрос о причинах перевода графа Поццо ди Борго в Лондон. Это объясняет и выбор государем в качестве нового представителя России во Франции генерал-адъютанта графа фон дер П.П. Палена. Петр Петрович послушно выполнял волю Николая и не собирался проявлять собственную инициативу. Царь так объяснил свой выбор: «Это мой человек; с военной дисциплинированностью он будет вести дела так, как их понимаю я…»134. Как верно отмечал известный российский франковед П.П. Черкасов, «император Николай хорошо знал и ценил по-военному прямолинейный характер своего любимца Палена, чуждого всякой изворотливости и не склонного к компромиссам, так необходимым в дипломатической игре. В этом смысле выбор Палена в качестве посла во Франции был сделан Николаем совершенно осознанно. Русский самодержец желал показать «королю-гражданину», что не намерен излишне деликатничать с «фальшивой» Июльской монархией»135.
После первой встречи с императором состоялся и разговор с министром иностранных дел графом К.В. Нессельроде. Барант изложил вице-канцлеру свое видение двусторонних отношений и выразил сожаление, что, являясь внешне нормальными, они не являются «безопасными»: Россия демонстрировала, по словам посла, явное нерасположение к Франции. Барант сказал Нессельроде: «…император понимает, что настало время установить с Францией такие же отношения, что и с остальной Европой»136. Подводя итог этому разговору с графом Нессельроде, а также прогнозируя будущие контакты с ним, Барант делал такой вывод: «Мои отношения с Нессельроде будут свободными, доверительными, но не особенно результативными»137. Посол имел в виду, что вице-канцлер мог только озвучивать волю императора, который единолично принимал решения по важнейшим внешнеполитическим вопросам.
Подчеркивая негативный настрой императора к Июльской монархии и Луи-Филиппу, Барант отмечал, что к Франции как таковой государь относился совершенно иначе. В письме от 1 августа 1836 г он привел разговор императора с графом Кинемоном, французским атташе в Копенгагене, оказавшимся в России в качестве путешественника. Император оказал французу самый любезный прием; по своему обычаю повез его на маневры артиллеристов. Довольный учениями, государь обратился к Кинемону со словами: «Ну вот, друг мой, как Вы все это находите? Я надеюсь, что эти пушки никогда не будут стрелять против французских пушек! Господь убережет нас от войны. Но если, к несчастью, война разразится, французы и русские должны маршировать вместе. Ничто не устоит против двух наших армий»138. Эти слова, как писал Барант, были обращены не к современной Франции, а к Франции воспоминаний, к Франции воображаемой, монархической и милитаризованной, о которой Николай Павлович сожалел, не веря в ее возрождение139.
По донесениям дипломата отчетливо прослеживается еще одна важная деталь: Барант постоянно подчеркивал, что гнев Николая к Луи-Филиппу и к режиму Июльской монархии контрастировал с настроениями петербургского общества. Барант был убежден, что позиция императора не разделялась большинством русских, или по крайней мере, двором. В своих донесениях он постоянно повторял, что для русского дворянства Париж оставался центром цивилизации и культуры. Барант писал, что среди членов дипломатического корпуса, от российских министров и придворных он регулярно слышал лестные высказывания о короле Луи-Филиппе и его мудрости. Посла расспрашивали о частной жизни Луи-Филиппа, о королеве и детях. «Нет сомнений, – делал вывод дипломат, – если бы существовал страх спровоцировать гнев императора, я бы не слышал подобных разговоров. Такие беседы никогда бы не велись за столом императрицы, которая вполне могла их слышать»140. Эти наблюдения Баранта весьма важны: в целом свет зависел от указаний императора.
Из донесений барона де Баранта нам известно и его мнение относительно реакции Николая I на события Июльской революции. Государь, по словам посла, изначально, как и другие монархи, был шокирован революцией, воспринимая ее «как самый страшный удар, когда-либо нанесенный королевскому роду»141. Николай, по словам Баранта, начал судить о Франции не объективно, а «страстно», неправильно представляя себе положение дел во Франции и ошибаясь относительно перспектив ее развития: «Он не воспринимал информацию, противоречившую его желаниям и надеждам. Он терпеть не мог послов, пытавшихся его переубедить в чем-либо»142. Барант справедливо полагал, что императору, в том числе по причине его самолюбия и упрямства, было трудно пойти на компромисс в отношения с королем французов. Однако, отмечал дипломат, Николай был осторожен и предусмотрителен, и серьезное осложнение отношений с Францией, полноправной участницей «европейского концерта», не входило в его планы. Именно этими соображениями, по словам посла, объяснялся оказанный ему прием и та предупредительность, которую он встречал при дворе. Барант подчеркивал, что Николай очень заботился о своей репутации в Европе, поэтому он был вынужден учитывать фактор европейского общественного мнения. Как писал дипломат, Николай действовал и говорил исключительно для того, чтобы задобрить заграницу143.
Однако внешняя любезность императора не могла скрыть его истинного отношения к Июльской монархии. При всяком подходящем случае Николай стремился задеть национальное самолюбие французского посла. В середине июля 1836 г. Барант присутствовал на смотре 26-ти трехпалубных кораблей в Кронштадте. Изучая список кораблей, Барант обратил внимание на такую деталь: большинство судов имели названия в честь русских побед над французами. Государь, видя, как внимательно посол изучает список, подошел к нему и дружески сказал: «Вероятно, Вам еще сложно бегло читать порусски, давайте-ка, я Вам помогу»144. Первым в списке значился корабль с гордым именем «Березина». Николай, якобы пытаясь сгладить негативное впечатление, поспешил успокоить посла: «В ваших эскадрах есть «Аустерлиц» и «Фридлянд»; все гордятся воспоминаниями о своей военной славе. Все очень просто». «Это свойственно всем народам, сир, – согласился Барант, – и мы тоже гордимся своими победами». Хотя колкий подтекст этого разговора был очевиден, в своем донесении посол сделал вывод, что в словах императора не было «ничего ранящего»145.
В это самое время во всей Европе и в России обсуждался вопрос о женитьбе наследника французского престола, принца Фердинанда Орлеанского. Для Франции и лично короля этот вопрос имел большую политическую важность. После революции 1830 г. Орлеанская династия оказалась в условиях матримониальной блокады. Разрушить ее и найти достойную невесту для своего сына было делом чести для Луи-Филиппа. Во Франции не отрицали возможности заключения брака герцога Орлеанского с одной из дочерей Николая I. Однако против был и император, и король Луи-Филипп. Луи-Филипп дал понять Баранту, что не желает для наследника престола русского брака; гораздо больше его интересовала перспектива брака герцога Орлеанского с австрийской эрцгерцогиней Терезией, племянницей императора Франца146. С этой целью на лето 1836 г. был запланирован визит сыновей Луи-Филиппа в Вену и Берлин.
Известие об этом путешествии было весьма болезненно воспринято Николаем. По словам Баранта, оно вызвало у императора «живую досаду и печаль». Посол отмечал, что царю было крайне неприятно наблюдать, что европейские монархи не собирались присоединиться к блокаде Орлеанского дома. Более того, принцам готовился роскошный прием147.
Французские принцы, как и ожидалось, были блестяще встречены в Вене и Берлине. Барант, сообщая 28 мая 1836 г. новому министру иностранных дел Адольфу Тьеру о великолепном приеме, оказанном сыновьям Луи-Филиппа в Берлине, и еще не зная о реакции Николая, который был тогда в Царском Селе, отмечал, что такой прием «скорее поставит императора в затруднительное положение, чем вызовет его недовольство». Посол докладывал: «… Несмотря на привычку императора ничему не верить и никого не слушать, мнение двора для него весьма важно. […] То или иное персональное мнение никак не влияет на его позицию, но когда речь идет о его дворе и особенно правительстве, это совсем другое дело. Его нежелание быть с королем французов в тех же отношениях, что и с другими европейскими монархами воспринимают здесь как непонятное ребячество и неуклюжесть»148.
Итак, в своих донесениях барон де Барант стремился показать, что император Николай был одинок в своем негативном отношении к Франции. Посол отмечал, что окружение императора не разделяло его «недоброжелательно-почтительной» манеры обращения: «Его брат и особенно великая княгиня Елена, не придавая особой огласке свое мнение, не скрывают его, однако. […] Поговаривают даже, будто такое упрямство императора вызывает у императрицы некоторое разочарование»149.
Тем временем, идея австрийского брака для сына Луи-Филиппа окончилась ничем. Но удача улыбнулась в Берлине: прусский король Фридрих-Вильгельм предложил кандидатуру принцессы Елены Мекленбург-Шверингской в качестве супруги герцога Орлеанского.
Какова была реакция императора? До Баранта дошли сведения, что государь не одобрил идею и этого брака. Когда же в российской столице узнали, что прусский король на нем настаивает, Николай публично высказал свое негодование барону Бодену, посланнику герцогства Мекленбург-Шверинг в России. Брак, однако, был заключен; 13 июня 1837 г., через две недели после свадьбы герцога Орлеанского, Барант сообщал тогдашнему главе правительства графу Луи Моле: «Император все еще никак не успокоится; это какая-то странная фобия. Он полагает, будто Австрия и Пруссия проявили непоследовательность в этом вопросе…»150. Но вновь посол подчеркивает, что отношение императора Николая к Франции и Луи-Филиппу не совпадало с настроениями русского общества. 8 июля 1837 г. он писал графу Моле: «Император Николай почти одинок в своей ненависти; никто в его окружении не думает и не отзывается плохо о Франции…»151.
Приведем еще один пример. Известия о действиях французской армии в Алжире и взятии города Константины, по словам Баранта, произвели сильное впечатление на столичное общество. Барант писал Моле: «Когда пришла новость о взятии Константины, я был на приеме у графа Воронцова. Отовсюду я слышал поздравления. Первым ко мне подошел граф Нессельроде. Можно было подумать, что я нахожусь во французском обществе, настолько эмоциональными были выражения симпатии». Причем Барант был убежден, что если бы Николай присутствовал на этом приеме, «он также проявил бы большой интерес к этой новости». Ведь, как писал дипломат, Николай «испытывал большую страсть ко всему, связанному с военной славой, и в этом случае его политические пристрастия отступали на второй план»152.
В июле 1836 г. на Луи-Филиппа было совершено очередное покушение. Император, узнав об этом трагическом происшествии, тотчас отправил Нессельроде записку: «Вы увидите г-на Баранта раньше меня; скажите ему о моем искреннем негодовании. Предпишите графу Палену явиться к королю Луи-Филиппу и сообщить ему о моих чувствах»153. Барант приводит и первые слова Николая, получившего новость о покушении: «Король Луи-Филипп закончит 18-м брюмера!»154 Государь имел в виду нестабильную политическую ситуацию во Франции и вероятность государственного переворота. Несколько дней спустя на балу у императрицы царь в разговоре с Барантом вновь повторил эту фразу. Дипломат пытался успокоить Николая, заявив, что покушение не являлось «опасным симптомом», и что власти Луи-Филиппа ничто не угрожает155.
Николай I, однако, не верил в стабильность Июльской монархии. В то же время, отмечая, что император всегда будет испытывать недовольство по отношению к Франции, Барант надеялся на позитивные перемены в его образе мыслей. По его мнению, Николай со временем должен был понять, что игнорирование Франции могло привести к его собственной изоляции в Европе, а его политика воспринималась бы европейцами как чуждая их ценностям156. Хотя именно так политику России и Николая I и воспринимали в Европе.
1830-1840-е гг. прошли под знаком очередного обострения Восточного вопроса. Это не могло не отразиться и на состоянии русско-французских отношений. Заключение 15 июля 1840 г. Лондонской конвенции по делам Востока, урегулировавшей конфликт между турецким султаном и пашой Египта Мухаммедом Али без участия Франции, вызвало резкое обострение международной обстановки. Правительство Адольфа Тьера стало усиленными темпами проводить политику милитаризации и готовиться к реваншу за очередное унижение и международную изоляцию.
Спустя месяц после заключения конвенции, 15 августа 1840 г., Барант сообщал о реакции на нее в Санкт-Петербурге: «Как я и предвидел, Конвенция 15 июля и ее ужасные возможные последствия вызывают здесь всеобщее беспокойство. Наши коммерсанты, находящиеся в России, настолько встревожены, что мне пришлось их заверить, что даже если мир будет нарушен, что еще не очевидно, должно пройти много месяцев, прежде чем возникнет опасность для их торговли. Газеты, особенно французские, только подливают масла в огонь и сеют семена сомнений относительно возможности сохранения мира»157.
В то же время посол искренне надеялся, что общеевропейской войны удастся избежать. Подтверждение этому он усматривал в поведении Николая. 15 августа 1840 г. Барант писал: «Я не верю, что идея общеевропейской войны, крестового похода против Франции, о которой император мечтал все эти годы, неизменно присутствует в его душе… Наверное, все это существует в его воображении, но он прекрасно понимает, что правительства Австрии и Пруссии не поддерживают подобные идеи»158. Как видим, Барант весьма объективно оценивал императора Николая как политика рационального типа, несмотря на всю его страстность и эмоциональность. По его мнению, главное, к чему стремился Николай I – это расстроить англо-французское «сердечное согласие», «проучить» Францию, вынудив ее пойти на уступки. Но даже в эти тревожные дни посол сообщал, что императорское окружение было весьма спокойным, оно не было настроено против Франции, «желало сохранения мира и надеялось, что так оно и будет». Что касается поведения самого императора, то, по словам Баранта, в эти дни он показался ему «скорее удовлетворенным, нежели воодушевленным»159.
Между тем король Луи-Филипп вовсе не склонен был воевать с европейской коалицией. Тьер был отправлен в отставку. 29 октября 1840 г. король сформировал кабинет под руководством Николя Сульта. Пост министра иностранных дел занял более осторожный и умеренный, нежели, Тьер, политик, Франсуа Гизо, фактически ставший реальным главой правительства.
Приход к власти Гизо явился благоприятным фактором для возобновления переговоров между Францией и странами, подписавшими Конвенцию 15 июля. Союзные державы стремились подключить Францию к соглашению, нуждаясь в общей гарантии режима черноморских проливов. К тому же изоляция Франции поколебала европейское равновесие и создала напряженную обстановку на континенте. «Все, вроде бы, успокоились, хотя никому не известно, каким образом правительства выйдут из этой трудной и опасной ситуации»160, – писал Барант в своем первом письме новому министру иностранных дел Франсуа Гизо 11 ноября 1840 г. Он сообщал, что император имел «страстное желание сохранить мир» и надеялся, что правительство Гизо окажется более долговечным, нежели предыдущие кабинеты. «Россия не желает идти на сближение, но и не хочет, чтобы сохранялась враждебность», – такое мнение вынес французский дипломат из разговора с государем161. Положение самого Баранта в это время было весьма непрочным; как отмечала подруга баранта Доротея де Дино, племянница и спутница жизни Ш.-М. Талейрана, поговаривали о его переводе в Лондон162.
Со времени начала острой фазы Восточного кризиса, а именно с первых месяцев 1839 г. и вплоть до ноября 1840 г., Баранту ни разу не довелось поговорить с императором наедине по вопросам текущей политики. Царь проводил четкое разграничение между личностью посла и его официальной дипломатической миссией. Наконец, в письме от 1 декабря 1840 г. Барант сообщил, что разговор с царем состоялся. Николай вновь подчеркнул, что его главным желанием являлось сохранение мира, поздравил Баранта с новым составом французского министерства и поинтересовался, действительно ли у посла «давние дружеские отношения» с Гизо163 (так оно действительно и было).
Однако и после подписания Второй Лондонской конвенции 1841 г. напряженность в русско-французских отношениях не была преодолена. Поверенный в делах Российской империи во Франции Н.Д. Киселев сообщал в июле 1841 г., что и после урегулирования кризиса его отношения с королем и Гизо «ограничивались простым обменом мнений и общими рассуждениями»164.
В августе 1841 г. барон де Барант и его супруга получили отпуск. На прощальной аудиенции у императора в Петергофе, Николай Павлович впервые за долгое время заговорил с послом о делах. «Ну вот, мы и разрешили Восточный вопрос, этот важный вопрос, который сами таковым и сделали, и который больше таким не должен являться. Я надеюсь, что отныне мы больше не будем вмешиваться в дела Турции. Пусть все идет своим чередом»165. Барант и его супруга были приглашены к государю на ужин, после которого Николай I и Александра Федоровна тепло попрощались с супругами Барантами, выразив желание как можно скорее вновь их увидеть в Петербурге166.
Накануне отъезда Барант часто виделся с Нессельроде, и расстались они, по его словам, «с заверениями в доверии и дружбе»167. 21 августа на борту французского фрегата «Даная», доставившего в Кронштадт поверенного в делах Франции в России Огюста Казимира Перье168, посол отбыл из России. Прибытие французского судна в Кронштадт было необычным явлением: последний раз французский корабль появлялся в водах Балтики семнадцать лет назад. Это был фрегат, отправленный за французским дипломатом графом Ла Ферроне. По словам Баранта, прибытие этого судна вызвало большой интерес в Петербурге. На его борт поднялись морской министр князь Меншиков, адъютанты императора Николая, князь Долгоругий и некоторые другие важные персоны, а также второй сын государя, великий князь Константин. Сам государь уклонился от этого визита. Барант, не желая усматривать в отказе политический подтекст, сообщал в Париж, что это было связано исключительно с тем фактом, что год назад Николай не поднялся на борт английского фрегата, прибывшего за лордом Кланрикардом, и теперь стремился «сохранить полное равновесие»169.



