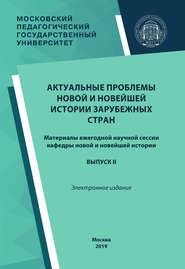 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран. Выпуск II
Гоголь упорно боролся со стереотипами, причем особенно упорно с собственными. Как только он понимал, что впечатления реальной жизни не соответствуют устоявшимся представлениям, он напряженно искал причины этого и пытался разрешить противоречие с помощью художественных методов. Его впечатление от людей, от тех англичан, которых Гоголь встречал на дорогах Европы, изменилось по сравнению с петербургским периодом жизни. Деловые английские конторщики и практичные педагоги уступили место праздным английским туристам. Приехав в Гамбург в 1836 г. (немецкий город для него пока еще «…прекрасный город, и жить в нем очень весело»), Гоголь попал на бал, где увидел толпу англичан. Вот самое сильное впечатление: «Англичанин есть человек довольно высокого роста, который садится всегда довольно свободно, поворотившись спиною к даме и положивши одну ногу на другую»91. В Швейцарии, посетив подземелье Шильонского замка и расписавшись, по примеру Байрона и многих других, на стене («в низу последней колонны, которая в тени…»), Гоголь иронично пишет Жуковскому: «…когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин»92 (Анненков в Ферраре видел дверь в темницу Торквато Тассо в больнице Св. Анны – «…изрезанная, исписанная, исковерканная, чуть-чуть не искусанная путешественниками, особливо англичанами. Байрон собственною своею аристократическою рукой вырезал гвоздем на соседственной стене пять букв своей фамилии»93.) В повести «Рим» упоминается направляющийся туда нелепый английский турист на осле. Его нелепость94 особенно подчеркнута в сравнении с прекрасными итальянками. «Ослы… таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли…»95. Далее рассказывается о воспитании молодого итальянского князя под руководством аббата «строгого классика», любившего хорошо покушать. «О других землях и государствах аббат намекнул в каких-то неясных и нетвердых чертах: что есть земля Франция, богатая земля, что англичане – хорошие купцы и любят ездить, что немцы – пьяницы, и что на севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий». От этого каталога национальных стереотипов юношу избавил только его отец, решивший дать сыну европейское образование, «что можно было отчасти приписать влиянию какой-то французской дамы…», понравившейся старику96.
Гоголю не довелось увидеть англичан в их собственной стране и поэтому обобщенный образ британца у него не складывался. Он честно признался в этом самому себе в письме Балабиной от 12 июля (н.ст.) 1844 г. Сообщая об исполнении поручения разыскать во Франкфурте английского пастора, Гоголь, как мне кажется, намеренно искажает его фамилию – Пирпенфельд или Пильпентафель. Более того, «…оказалось, что господин Пирпенфельд ускользнул из Франкфурта и поручил все дела какому – писал он, добавляя при этом: «…для меня все подобные фамилии несколько трудны, и поэтому извините, если несколько ошибаюсь в правописании»97. Видимо, господин Пирпенфельд ускользнул не только из Франкфурта, но и из представлений Гоголя о национальных характерах разных европейских народов98. Но это, конечно, только этап процесса познания. Этап 1844 года. Гоголь и дальше бился над загадкой английского национального типа99.
Вспомним его представления о тонком художественном вкусе и религиозных чувствах англичан. Но вот строки из воспоминаний Анненкова периода их совместной с Гоголем жизни в Риме в 1841 г. Анненков пишет: «…скульптурные произведения древних тогда еще производили на него (на Гоголя – А.О.) сильное впечатление. Он говорил про них: “То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты”. … Он часто забегал в мастерскую известного [скульптора] Тенерани любоваться его “Флорой”, приводимой тогда к окончанию, и с восторгом говорил о чудных линиях, которые представляет она со всех сторон и особенно сзади: «Тайна красоты линий, – прибавлял он, – потеряна теперь во Франции, Англии, Германии и сохраняется только в Италии»100. В письме Балабиной из Рима от апреля 1838 г. Гоголь обещал ей молиться за нее «… здесь, где молитва на своем месте, то есть в храме. Молитва же в Париже, Лондоне и Петербурге все равно что молитва на рынке»101.
Когда-то он восхищался английской способностью создавать комфортные условия жизни и отсутствие комфорта могло испортить его первое впечатление о стране, поскольку это тоже имело отношение к поискам гармонии. Смирнова-Россет записала в дневнике: «Раз говорили о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что на этот счет всего хуже в Португалии и еще хуже в Испании и советовал мне туда не соваться с моими привычками. “Вы как это знаете, Николай Васильевич?” – спросила я его. “Да я там был, пробрался из Испании, где также очень гадко в трактирах, все едят с прогорклым прованским маслом. Раз слуга подал мне котлету, совсем холодную. Я попросил его подогреть ее. Он преспокойно пощупал рукой и сказал, что она должна быть так. Чтобы не спорить, я спросил шоколаду, который оказался очень хорошим, и ушел”»102. Получив от Николая I вспомоществование в 1 тыс. руб. сер. (3,5 тыс. руб. асс.), Гоголь в феврале 1848 г. смог совершить давно им задуманное путешествие в Палестину. «Что он чувствовал у гробницы Спасителя, осталось тайной для всех. Знаю, что он мне не советовал ехать в Палестину, потому что [там] комфортов совсем нет», – вспоминала Смирнова103. Тем не менее, в черновых набросках ответа Гоголя Белинскому, написанных за полгода до поездки в Святую Землю, сказано: «…а все прочие кутят сломя голову с утра до вечера на всяких зрелищах, заклады<вая> последнее свое имущество, чтобы насладиться всеми комфорта<ми>, которыми наделила нас эта б<естолковая?> европейская цивилизация?»104. Как говорится, не в коня корм. Если комфорт не приносит настоящей пользы (т.е. не способствует превращению человека материального в человека духовного), то зачем он тогда вообще нужен? В письме 1850 г., отправленном Гоголем Смирновой для передачи министру внутренних дел гр. Л.А. Перовскому или министру народного просвещения кн. П.А. Ширинскому-Шихматову или главе III-го Отделения и шефу жандармов гр. А.Ф. Орлову (письмо осталось непереданным), он просил поддержать его проект издания книги о географии России, «…которая поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев…». Среди достоинств книги писатель упоминал и такую: взрослому, читавшему ее в детстве, никогда не придет в голову «…заводить несвойственные ей (России – А.О.) фабрики и мануфактуры, доверяя иностранным промышленникам, заботящимся о временной собственной выгоде»105. Отмечу, что письмо написано в той же Васильевке, откуда 18 лет назад Гоголь писал Дмитриеву о необходимости мануфактур. Автор сильно изменился за это время, пороки России и достижения Западной Европы ему виделись в другом свете.
Важнейший для Гоголя в конце 1840-х гг. вопрос прозвучал в неотправленном письме Белинскому: в чем значение для России достижений европейской цивилизации и в чем, собственно говоря, заключаются эти достижения? «…Какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно <никто> покуда не видел, и ежели <пытались ее> хватать руками, она рассы<пается>. И прогресс, он тоже был, пока о нем не дум<али, когда же?> стали ловить его, он и рассыпался»106. Но все же у Гоголя было свое собственное представление о ценности западной цивилизации, лидирующие позиции в которой (он это видел, в отличие от многих русских, видевших таким лидером Париж) занимала Англия. В письме Анненкову из бельгийского Остенде от 7 сентября (н.ст.) 1847 г. Гоголь убеждал своего корреспондента в следующем: «…сколько могу судить по тем результатам, которые отбираю теперь от всех людей, прилежно наблюдающих над действующими ныне силами в Европе, я, однако ж, заметил некоторую неполноту в ваших наблюденьях и упущенья, которые вы сделали на вашем пути. Это я приписываю тому, что вы сделали представителем всего для себя Париж и оставили совершенно в стороне Англию, где важная сторона современного дела. По моему разумению, вам необходимо туда съездить, и не то, чтобы взглянуть только на Лондон, но именно прожить в Англии, затем избрать в предмет наблюдений не один какой-нибудь класс пролетариев (здесь и далее курсив в тексте – А.О.), изученье которого стало теперь модным, но взглянуть на все классы, не выключая никого из них». В Англии Гоголь видел «…разумное слитие того, что доставила человеку высшая гражданственность, с тем, что составляет первообразную патриархальность…»107. Остенде находится так близко от Англии. Казалось, что и сам Гоголь вскоре туда поедет и будет наблюдать за жизнью англичан на их родине108. Но в начале 1848 г. он уехал совсем в другом направлении – в Иерусалим. Неудача книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847 г.) потрясла Гоголя и ему необходимо было восстановиться для работы на вторым томом «Мертвых душ».
Громадность труда, в котором он хотел показать русские типы, противоположные типам Ноздрева, Собакевича, Манилова и Коробочки, целиком поглощала его. Анненков пишет о том, как в 1846 г. («Выбранные места…» только готовились тогда к публикации) случайно встретил Гоголя в баварском г. Бамберге, где они вместе осмотрели великолепный романский собор Св. Петра и Св. Георгия XIII в. постройки. Анненков рассказал Гоголю, что путешествует по Европе из любопытства. Гоголь отрывисто отвечал: «Эта черта хорошая… но все же это беспокойство… надо же и остановиться когда-нибудь… Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись по крайней мере хорошим гвоздем…». Через некоторое время Гоголь «…пламенным словом стал делать замечания об отношениях европейского современного быта к быту России. … “Вот, – сказал он раз, – начали бояться у нас европейской неурядицы – пролетариата… думают, как из мужиков сделать немецких фермеров… А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить”». Дальше Анненков приводит процитированную выше фразу Гоголя о русском мире со своими законами, о которых в Европе не имеют понятия109. Сопоставив информацию из двух последних абзацев, можно увидеть, что Гоголя интересовала способность англичан разрешать проблемы развивающегося капитализма, не теряя национального лица.
Но это ни в коем случае не означает, что он считал английский путь образцом для подражания. Путь у России, в его понимании, был свой собственный и главное его направление заключалось в духовном самоусовершенствовании человека. До встречи в Бамберге Анненков встречался с Гоголем в Париже, куда писатель приехал, сопровождая семейство гр. А.П. Толстого (обер-прокурора Св. Синода в 1856-1862 гг.). Они не виделись пять лет. За прошедшее время «Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа». Гоголь пригласил его провести вечер в большом обществе, собиравшемся в гостиной Толстых. Впрочем, он не принимал никакого участия в разговоре. «Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того или другого из этих народов, Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: “Я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты». Вслед за тем он вышел в другую комнату и возвратился через минуту назад с писанной тетрадкой в руках. Усевшись снова на диван… он прочел торжественно… новую “Речь” одного из известных духовных витий наших. “Речь” была действительно недурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешала его нимало. По окончании чтения молчание сделалось всеобщим; никто не мог ни связать, ни даже отыскать нить прерванного разговора. Сам Гоголь погрузился в прежнее бесстрастное наблюдение… На другой день он ехал в Остенде»110. Здесь комментарии излишни. Гоголь ясно показал, что для него важно, а что – пустая болтовня.
Важно также было творчество, поскольку в творчестве – духовном, музыкальном или литературном, есть гармония. Оно способно объединить разных людей, быть может, даже все человечество, направить их усилия к единой цели, сохранив при этом индивидуальность каждого111. В статье «Петербургская сцена в 1835-36 г.» (при жизни писателя не публиковалась), рассуждая о балете, Гоголь посвящает несколько строк танцам разных народов. «Мне кажется, – пишет он, – в танцах вообще тоньше характерность. Смотрите, в каком бесчисленном разнообразии являются танцы в разных [углах мира]. Они, так же, как народ, [отлились каждый в свою форму. Вот русский плавный, не напряженный и тихий танец, почти восточный танец. Вот танец западных славян, вольный, необузданный, шотландский вольный и живописный танец]. Швейцарский [частый] веселый. [Французский]. У каждого народа они тоже следствие жизни, у одного буйной, у другого тихой, у другого бесстрастие, у другого пламень живой страсти, тяжелой и легкой, многосложной и односложной»112. В повести «Рим» Гоголь говорит об итальянской культуре и популярности итальянской оперы. «Когда же и век искусства сокрылся и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески (т.е. аплодисменты – А.О.) звонким певцам»113.
Еще в Нежине в жизнь Гоголя вошла английская литература. Шекспир для него – автор глубокий, ясный, отражающий «…в себе, как в верном зеркале, весь огромный мир и все, что составляет человека…»114, хотя он и не сразу пришел к такому пониманию115, Байрон – гордо-одинокая душа, исполински замышлявшая заключить в себе «…ею же созданный, нестройный и чудный мир…»116, Вальтер Скотт – художник и мастер слова. Перед началом работы над первым томом «Мертвых душ» Гоголь в Женеве перечитывал Мольера, Шекспира и «вновь всего Вальтера Скотта»117. По словам Анненкова, Скотта Гоголь «…окружил… необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать (так в тексте – А.О.) его в пользу автора… Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам»118. В черновых набросках к «Мертвым душам» автор признавался в том, что на стене перед его конторкой висят портреты тех писателей, к которым он постоянно мысленно обращается – Шекспира, Лудовико Ариосто, Филдинга, Сервантеса и Пушкина, «…отразивших природу таковою, как она была, а не таковою, как угодно было кому-нибудь, чтобы она была»119. Литературовед И.Е. Лившиц, отмечая, что «на сегодняшний день уже не вызывает сомнений влияние на Гоголя Т. Мура или [Л.] Стерна», обращает внимание на параллель «Гоголь и Чарлз Метьюрин» применительно к повести «Портрет» (1835 г.) и роману последнего «Мельмот Скиталец» (Melmoth the Wanderer, 1820 г.). По ее словам, Гоголя в этом романе привлекает тема – «результат рабского, буквального подражания натуре»120. Ясно, что английская литература предоставляла Гоголю, кроме удовольствия от чтения, огромный набор средств и методов для собственного художественного творчества.
К творчеству призывает человека Гоголь, к постоянной работе над собой, считая при этом, что русский человек наиболее способен к такому труду. В «Учебной книге словесности для русского юношества» (1844-1845 гг., первая публ. – 1896 г.) есть такой отрывок: «А между тем только в одной русской голове (если только эта голова устоялась) возможно созданье науки как науки, и русский ум войдет в сок свой. Наука, окинутая русским взглядом, всеозирающим, расторопным, отрешившемся от всех сторонних влияний, ибо русский отрешился даже от самого себя, чего не случалось доселе ни с одним народом. Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; французу, о чем бы он не говорил, во всех его мненьях и словах будет слышен француз; англичанину и подавно, более всех нельзя отделиться от своей природы. Стало быть, полное беспристрастие возможно только в русском уме, и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому, разумеется, при его полном и совершенном воспитании. К этому нужно присовокупить нашу способность схватывать живо малейшие оттенки других наций и, наконец, живое и меткое наше слово, не описывающее, но отражающее (курсив в тексте – А.О.), как в зеркале, предмет»121.
Здесь содержится ответ на вопрос, поставленный в начале моей статьи: как сочетается то, что ни одна европейская страна не может быть свободна от Европы, но, в то же время, в Европе не имеют понятия о русском мире. Гоголь видел, что европейская цивилизация в 1840-е гг. находилась на грани какого-то важного перелома, движения к будущему. Кто готов к этому будущему? С его точки зрения, более всего Англия («сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца…», – сказано в «Мертвых душах»122), но она демонстрирует и наибольшее число проблем. Россия может избежать этих проблем. Она должна идти по собственному пути, используя преимущества – монархический строй, религиозность, своеобразие социально-экономических отношений, особенности менталитета народа, самобытность народной культуры, особенно хорошо сохранившейся на окраинах страны (например, в Малороссии). Развив и укрепив все это, можно будет спокойно воспринимать западные достижения, освободиться от неплодотворных стереотипов, вдумчиво их оценивать и использовать лучшее. Искать и найти гармонию в душе и в мире, а потом подарить важное знание всему человечеству. Роль русского (человека будущего) обозначена Гоголем вполне ясно. Американский филолог Рональд Леблан отмечал: «…автор “Мертвых душ” способствовал… избавлению русской литературы от уз иностранного [книжного] империализма и культурной колонизации, которые – под видом литературного перевода, переделок, подражания и влияния – грозили порабощением русской художественной прозе начала XIX столетия. … Великой заслугой Гоголя стал его вклад в дело формирования в России собственной, ни от кого не зависимой, литературной традиции»123.
В этом отношении позиция Гоголя составляет противоречие с позицией Л.Н. Толстого, выраженной в «Войне и мире» (1863-1869 гг.). Гоголь увидел в образе Англии возможность научиться гармонически сочетать движение вперед и сохранение самобытного национального лица. Толстой, сделав в своем романе Англию и англичан фигурой умолчания, стремился вытеснить «англичанина» из сознания русского человека124. Но Гоголь и Толстой действовали в разные исторические эпохи развития России.
Библиография:1. Алексеев М.П. Комментарии // Барбе д'Оревильи Ж.А. Николай Гоголь // Гоголь Николай Васильевич. [Электронный ресурс]. URL: http://gogol.velchel.ru/index.php?cnt=9&sub=6&part=3# (дата обращения: 18.10.2017).
2. Альшиц Д.Н. Николай Васильевич Гоголь – историк // Санкт-Петербургский университет в XVIII-XX вв.: европейские традиции и российский контекст. Труды международной научной конференции 23-25 июня 2009 г. / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко, И.Л. Тихонов. СПб.: Издат. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2009.
3. Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Книжный Клуб Книговек, 2015.
4. Барбе д'Оревильи Ж.А. Николай Гоголь // Гоголь Николай Васильевич. [Электронный ресурс]. URL: http://gogol.velchel.ru/index.php?cnt=9&sub=6&part=3# (дата обращения: 18.10.2017).
5. Безлепкин Н.И. Н.В. Гоголь как философ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение, 2015. Вып. 3.
6. Библиография переводов на иностранные языки произведений Н.В. Гоголя / Сост. М.С. Морщинер, Н.И. Пожарский; отв. ред. М.П. Алексеев. М.: Всесоюзная гос. биб-ка иностр. лит-ры, 1953. № 212, 213, 287.
7. Бутков Я.П. Невский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева // Бутков Я.П. Повести и рассказы. М.: Художественная литература, 1967.
8. Воропаев В.А. Каждого из нас званье свято. Гоголь и Император Николай I. К 160-летию со дня смерти Государя Николая Павловича // Преподаватель XXI век, 2016. Т. 3. Ч. 2.
9. Гоголь и время. Сборник статей / Ред. А.С. Янушкевич, А.В. Петров. Томск: изд-во Томского университета, 2005.
10. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах. М.-Л.: изд-во АН СССР, 1937-1952.
11. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. В двадцати трех томах. М.: Наука, 2003-2012.
12. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в семи томах / Под общ ред. С.И. Машинского, Н.Л. Степанова, М.Б. Храпченко. М.: Художественная литература, 1966-1967.
13. Гоголь Н.В. Собрание сочинений в семи томах / Под общ. ред. С.И. Машинского и М.Б. Храпченко. Т. 7. Письма. М.: Художественная литература, 1979.
14. Записки А.О. Смирновой, урожденной Россет с 1825 по 1845 гг. / Сост. К. Ковальджи. М.: Московский рабочий; НПК «Интелвак», 1999.
15. Леблан Р. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у Бахтина / Пер. с англ. Т.Е. Каратеевой // Вопросы литературы, 1998. № 4 (июль – август).
16. Лейтес А.[М.] Гоголь и его зарубежные «комментаторы» // Октябрь, 1952. Кн. 3 (март).
17. Лившиц И.Е. Английский контекст творчества Гоголя. Н.В. Гоголь и Ч. Метьюрин. Автореф. дис. … канд. филолог. наук. М.: РГГУ, 2001.
18. Литературные очерки. Гоголь и иностранцы // Горленко В.[П.] Отблески. Заметки по словесности и искус[с]тву. [2-е изд.]. СПб.: Типо-лит. «Энергия» (Э.М. Шапиро), [1906].
19. Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. СПб.: изд-во «Лань»; Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.
20. Мазинг Л.К. Переводы сочинений Гоголя // Сборник в память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского, изданный Императорским Юрьевским Университетом // Ученые записки Императорского Юрьевского Университета, 1904, № 5. Приложения.
21. Неболсин Г.[П.] Статистические записки о внешней торговле России. Ч. 2. СПб.: тип. Деп-та внеш. торг., 1835. Отд. 3.
22. Николай Васильевич Гоголь, как учитель жизни. М.: [Посредник]; тип. Сытина, 1888.
23. О самопознании. Трактат Иоанна Месона. Ч. 1-3. М.: тип. В. Готье, 1872.
24. Орлов А.А. Британия и британцы как фигуры умолчания в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // Люди и тексты. Исторический альманах. Вып. № 10. Историческая беллетристика / Гл. ред. М.С. Бобкова. М.: ИВИ РАН, 2017.
25. Орлов А.А. Е.Ф. Канкрин и поставки английских мундирных сукон в Россию в 1815-1817 гг. // Клио. Журнал для ученых. 2000. № 2 (11).
1817 гг. // Клио. Журнал для ученых. 2000. № 2 (11).
26. Песнь Невская. 1837 (Неизданное стихотворение княгини З.А. Волконской) // Русский архив, 1872, № 10. Стлб. 1980.
27. Рескин Дж. Лекции об искусстве. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2013.
28. Русские и иностранные филологи обращали внимание и на другие возможные аспекты «английского контекста» творчества Гоголя: Урнов Д.М. Гоголь и Диккенс // Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка, 1985. Т. 44, № 1 (январь – февраль).
29. Смирнов А.А. Восприятие русской литературы в Германии: Пушкин, Лермонтов, Гоголь // Россия и Германия. Сборник статей по материалам международной научной конференции «Россия и Германия: литературные и культурные связи в XVIII-XXI веках» / Сост. Н.И. Михайлова, В.А. Невская. М.: Гос. музей А.С. Пушкина, 2015.
30. Сопленков С.В. Российская общественная мысль первой половины XIX века о Востоке. Дис. … канд. ист. наук. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998.
31. Станиславская А.М. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья (1798-1807 гг.). М.: изд-во АН СССР, 1962.
32. Шульц С.А. Гоголь и Свифт («Мертвые души» и «Путешествия Гулливера») // Человек. 2015. № 2 (март – апрель).
33. Der Revisor. Lustspiel in 5 Acten. Bearb. von A. von Viedert. Berlin: Trowitsch, [1854.

